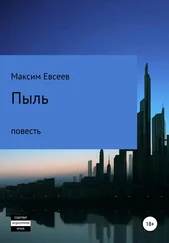Инесс снова поставила фотографию на камин.
— Гёца я не дам в обиду, — сказала она. — Он был славный парень. Вот только история с Лизелоттой доконала его. Он не смог все это пережить, ему это было не по плечу. Вот ты способен себе представить, — она повернулась к мужу, выказывавшему явное неодобрение, — что испытывают люди, которые слишком поздно узнали, где правда? Тебе хорошо говорить — у тебя есть твой отец, у меня есть и мой отец и твой. А кто был у Гёца? — И не дожидаясь ответа на свой вопрос, обратилась к Хильде: — А кто есть у Руди, у твоего больного? Что представляет собой его отец?
И Хильда принялась рассказывать о Пауле Хагедорне. Из нескончаемых домашних разговоров она знала, что послужило причиной разлада между Паулем Хагедорном и Эрнстом Ротлуфом.
Но предоставим слово оратору по имени Теперь, и пусть он расскажет о том, чего еще не знает Хильда. Ибо теперь, в настоящую минуту, Пауль Хагедорн говорит нежданному гостю Эрнсту Ротлуфу:
— Уже в конце тридцать второго я потерял всякую надежду. Мы голодали, я лишился пособия; ходил на городские работы, дробил камни и получал меньше двадцати марок в неделю, а Дора ждала третьего в конце января — начале февраля. Да тут еще рождество на носу. К рождеству мы всегда придерживали про запас талоны и кое-что покупали со скидкой в потребительском кооперативе. Но на этот раз мы пх использовали за месяц до рождества. Крысы дрались у нас под столом из-за крошки хлеба. У соседей, у дочери Пауля Герике, крыса отъела ухо грудному ребенку. Ты ведь помнишь, в какой дыре мы тогда жили…
— А мне, думаешь, было лучше? Разве я не за ту же плату, не при той же погоде дробил камни? Правда, жилье у меня было поприличней, чем у тебя, это верно. Да разве только в жилье дело? На ноябрьских выборах в рейхстаг мы отобрали у нацистов два миллиона голосов, стало быть, тридцать четыре мандата. Единый фронт мог доделать остальное, если бы, эх, если бы…
— Я всегда голосовал за красный список, Эрнст, и в тридцать втором тоже. Твоя правда, вы получили тогда сто мест в рейхстаге, но ведь у нацистов-то все еще оставалось сто девяносто шесть…
— Зато сколько было бы у нас вместе с социал-демократами, а, Пауль? Да от нацистов бы мокрого места не осталось, если бы, эх, если бы… Твой голос немало значил в профсоюзе, на тебя глядели рабочие всего города, ты был не из тех, кого можно подкупить, был — до того дня…
— Это произошло в субботу за две недели до рождества. Дора вернулась от доктора Хольцмана. Доктор Хольцман, член магистрата от социал-демократов, просил меня зайти к нему в понедельник, до приема или после.
— И предложил тебе место помощника дорожного смотрителя и казенный домик. Тридцать семь марок в неделю и старую развалюху.
— Все лучше, чем наша дыра…
— А что Хольцман потребовал взамен?
— Ну, не так уж напрямик, как ты думаешь. Хольцман был не такой уж дурак, чтобы с места в карьер потребовать: саботируй, мол, Единый фронт, и все тут. Он просто хотел оказать мне любезность. Даже не столько мне, сколько Доре. А про Единый фронт он вообще ни словом не обмолвился. Он сказал только, что Гпнденбург терпеть по может этого богемского ефрейтора. И что, если Гитлер заберется все-таки на канцлерское место, обнаглевшие нацисты в два счета опозорятся. Месяца не пройдет, как они прогорят по всем статьям и утратят последние крохи авторитета. Вот что сказал мне Хольцман…
— А то, что втолковывал тебе я, ты забыл, начисто забыл… Попался на удочку, как миленький… Первого мая тридцать третьего сбегал с утра пораньше на демонстрацию, а после обеда принялся белить свой дом и с тех пор был тише воды, ниже травы. Дора, та хоть о Фридель заботилась. А ты и здоровался-то с ней сквозь зубы. Вот и докатился в сорок первом: всегда голосовал за красный список, а поклонился в ножки коричневым. Не понимаю, Пауль, не понимаю и никогда не пойму, как ты мог вступить в нацистскую партию… Что они из нас из всех сделали!
— Кремер, нацистский бургомистр, однажды вызвал меня к себе и сказал, что раз я держусь молчком, стало быть, я разлагающе действую на рабочих коммунального управления. А ты понимаешь, что это значило в те времена?!
— А что сейчас делает его отец? — спрашивает Ганс Бретшнейдер. — Теперь-то он хоть разобрался, что к чему?
— Пока еще нет, — ответила Хильда, — но, вероятно, скоро разберется, а пока он по возможности избегает встреч с новым бургомистром. О политике и слышать не желает. Он бы опять устроился чулочником к Хенелю.
Читать дальше
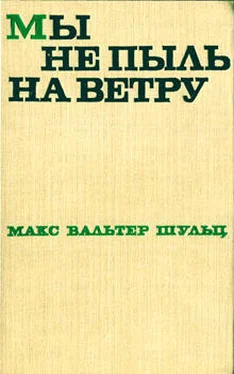





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)