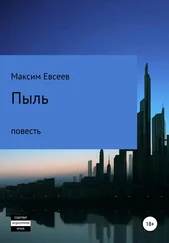— Нет, уж лучше иметь соседом по столу палача, чем иерихонского трубача… — И уходя, добавил еще похлеще: — От таких, как ты, все человечество разбежится.
Затхлая горечь обложила язык и отдаст плесенью, холод леденит кровь, как в лютую стужу, пес, шелудивый пес оседлал тебя. Хуже всего очутиться в одиночестве, безбрежном одиночестве, полном одиночестве. Нет больше рядом товарищей, которые отдадут тебе шерстяной шарф, нет Анны, которая скажет: «Вам надо помыться», нет воскресного утра, и нет «ее», той, что приходит и накрывает на стол, и бесшумно хлопочет в комнате, и кладет подле твоей чашки три сигареты, и тогда растворяется все, что ни ость вокруг, и остаются только глаза и теплота, щедрая, божественная теплота, и теплота эта цветет красным цветом, как миндаль, и создает и воссоздает все человечество…
Ничего не осталось, кроме лица, которое размазывается по зеркалу, как застывший жир, да лампочек, которые смотрят сверху, как желтые глаза сфинкса, да ярких лент, которые полощутся в дымном воздухе…
Яркие ленты гитары затерялись в толпе. Позади другой створки за столом сидят Урсула, ее муж и еще две молодые женщины. У одной на руках грудной ребенок. Другая повязала голову зеленым платком, она в черном жакете, на полу стоит рюкзак, сшитый из старого одеяла. Та, что с ребенком, ищет что-то в своей сумке. Две другие немедля протягивают руки — подержать ребенка. Разумеется, ребенок может достаться лишь одной, Урсула оказывается проворнее, чем другая, в зеленом платке… Праздно роняет пустые руки та, другая, в зеленом платке…
Уже не волоча ноги в дурацки-великом строю, а скорее как пьяный, который сыскал впереди точку опоры, идет Хагедорн через весь буфет. И когда он вдруг останавливается перед Хильдой и робко спрашивает, куда она собралась, ему приходится ухватиться рукой за крючок вешалки. Хильда сперва пугается, но потом заученно четко и с холодностью, которой он не ждал от нее, отвечает, что хочет уехать, просто-напросто уехать, она-де немного ошиблась адресом, но ничего страшного в этом нет, она но первый раз так ошибается…
Старый рабочий клуб, он же спортивный зал в Шмидберге, выглядел так, будто два солидных барака — побольше и поменьше — въехали один в другой. Он стоял в глубине, отступя на несколько метров от нечастого ряда домов, торцом к улице. На высоком фронтоне восстановили надпись, старую надпись, которую можно было прочесть еще из долины, когда поезд подходил к вокзалу. Нацисты приказали сколоть дегтярно-черные буквы вместе со штукатуркой. Но теперь снова черным по белому красовалась старая надпись: НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО! Как немые свидетели недавнего прошлого, торчали еще двухметровые столбы, на которых раньше была натянута колючая проволока, ограждавшая лагерь для военнопленных. Сегодня в четыре часа пополудни уничтожили последние приметы лагеря — содрали колючую проволоку с окон. И только полоса земли вокруг дома еще не успела зарасти травой; некогда зеленая полоса, где буфетчик расставлял в эту пору столы и садовые скамейки, была теперь тверже камня, как и положено лагерному двору.
Длинные вечерние тени дотянулись от крыши до тротуара, в зале уже зажгли огни. Желтоватый закатный свет освещал группки людей, вышедших из зала на перекур. С ними вышел и Эрнст Ротлуф. Но сегодня он был неразговорчив, слишком даже неразговорчив против обыкновения. И когда кто-то выглянул из двери и крикнул: «Бросайте свои гвоздики, мы продолжаем», он последним растоптал окурок и повиновался нехотя, словно колеблясь. Длинный коридор, который вел через пристроенный к спортзалу клуб, был уже пуст, когда в него вошел Ротлуф. Но Ротлуф не ускорил шаг, он брел усталой походкой мимо открытых дверей в комнату, где раньше был буфет, а потом лагерная кухня, а теперь вообще ничего не было, мимо ряда дверей на другой стороне коридора и ряда дощечек, из которых явствовало, что теперь партийные бюро коммунистов и социал-демократов разместились под одной крышей. Ротлуф шел так медленно и нехотя потому, что следующий пункт повестки дня — «Обсуждение и голосование по заявлениям о приеме в партию» — требовал, безоговорочно требовал от него немедленного решения, трудного, безумно трудного, все равно, что он ни скажет — да или нет. Фридель, его бывшая жена, подала заявление о приеме, ее вызвали, и она сидела с самого начала позади, на последней скамейке, и прослушала доклад о задачах и целях блока антифашистских партий, сделанный товарищем из окружного комитета, и даже предприняла робкую попытку выступить. Но Эльза Поль, председательствовавшая сегодня, умышленно не дала ей слова. Фридель поступила бы умнее, если бы подала к социал-демократам, думалось Ротлуфу. Там бы ее приняли с распростертыми объятиями, ее брат Ганс уладил бы все наилучшим образом. А у нас она уже была когда-то и не оправдала доверия. И вообще, разве можно неустойчивость по отношению к партии искупать в рядах той же партии? А может, дело обстоит проще, может, разведенная жена надумала использовать партию как мостик к бывшему мужу? Хорошо хоть, что Эльза на моей стороне. Вернее, будем надеяться, что она на моей стороне, будем надеяться…
Читать дальше
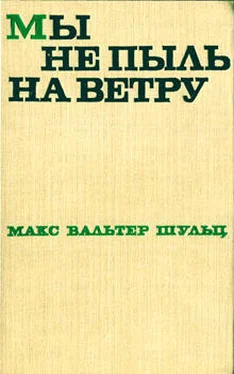





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)