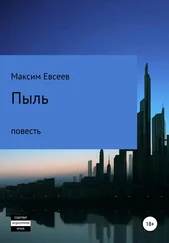Ротлуф говорит:
— Господин аптекарь тоже сияет, как пряник. В войну он вел поставки на три госпиталя и изрядно нагрел руки на этом деле. У него теперь три больших доходных дома и аптека в Рейффенберге и загородный дом в Рашбахе. На днях он остановил меня на улице и давай источать елей, а потом сообщил мне, что его сыночек недавно освобожден из американского плена, но опасается вернуться домой, потому что в советской зоне бывшему офицеру угрожают репрессии. Старик не на шутку горячится из-за своего «затравленного» сыночка, вот он и зондирует почву. «Ведь, правда же, господин бургомистр, у нас не применяют никаких репрессий к бывшим офицерам? Они должны просто отметиться в комендатуре, что протекает корректно, в высшей степени корректно». — Ротлуф перестал обозревать крыши и открытый горизонт и в упор взглянул на Хагедорна. — Тебе еще не приходилось после возвращения беседовать с твоим прежним благодетелем?
Интересно, откуда он знает, что старый Залигер ежемесячно выдавал мне пятнадцать марок на учебу? Небось, Хемпель сказал. Они до сих пор считают меня залигеровским прихвостнем. Им непременно хочется навесить ярлык на человека. Упрямый осел, — думает Хемпель; обманщик, — думают Хенне и Ротлуф; сгодится для прироста населения, — думает Эльза Поль; фашист, — думает младший лейтенант, и все они хотят одного: чтобы человек согнулся в три погибели, испытывал стыд, пресмыкался в пыли, молил о прощении. А за что меня прощать? За то, что старики перегрызлись в тридцать третьем, коммунисты и социал-демократы, и Гитлер сумел выйти победителем? Прочь из этой заварухи и пусть я даже ходил к старому Залигеру…
Хагедорн выдержал взгляд Ротлуфа и ответил:
— Да, я был у Залигеров и сказал им, что их сын здоров и в плену. Я просто по-человечески обязан был это сделать. Они хотели подарить мне почти неношеное зимнее пальто, а я не взял, и отец говорит, что он бы тоже не взял. Зато я взял костюм Герберта Фольмера, костюм подарила мне его мать. Да неужели вы думаете… — Руди обрадовался, что ему наконец пришло в голову простое и убедительное доказательство, способное развеять глубокое недоверие, которое, как он полагал, испытывают к нему все трое.
Словно мстя за оскорбление, он сказал:
— Да неужели вы думаете, что мать Фольмера подарила бы мне его костюм, если бы я казался ей хоть как-то замешанным в гибели сына? Ведь у такой женщины больше ума в сердце, чем у некоторых в голове…
Эльза Поль ободряюще улыбнулась, подошла к полкам и взяла из стопки какую-то анкету в несколько страниц. «Светотень!» — сказала Эльза Поль. Уж не из тех ли она, что говорят «кислятина»? Короткая стрижка под мальчика и седые волосы еще могут напомнить Лею, но глаза — нет, эти спокойные глаза за стеклами очков без оправы и быстрые движения скорей могут напомнить Хильду.
А Хемпель вдруг сделался похож на Хладека. У Хладека тоже бородавка на щеке. И для вящего сходства Хемпель говорит:
— А я подумал было, что у тебя распухли миндалины самолюбия, раз ты там, в участке, не пожелал даже разинуть пасть.
И только Эрнст Ротлуф остался самим собой. Ничто не изменилось в сером, как камень, лице… чужое ложится на крыши, на лица… И в неожиданно вспыхнувшем сознании одержанной победы — в сознании того, что несколько точных, правильно найденных слов помогли ему склонить на свою сторону Ганса Хемпеля и Эльзу Поль, Хагедорн вдруг испытывает острую потребность рассказать про свои злоключения в камере. На него вдруг нашла словоохотливость. Как на старого Фюслера, — мелькнуло в голове. И все, что он говорил теперь, говорилось ради одного Ротлуфа, все ради того, чтобы согнать отчуждение с серого, как камень, лица — согнать полуправдой, ибо Хагедорн умолчал о заключенном в камере гражданском мире.
Но умалчивая, стыдился и своей лжи, и полуправды, стыдился и трусости своей, и неверия, но не мог принудить себя к правде полного доверия, ибо лично для себя считал правду делом немыслимо сложным. И чем дальше он говорил, тем ленивее и беспомощней тек его рассказ. Однако слушатели проявили величайшее внимание — за высокомерное, затаенное недоверие платили искренним признанием, и раньше других — Ганс Хемпель.
— Видишь ли, мой дорогой, тот младший лейтенант из комендатуры нехорошо с тобой говорил. Но он первый обрадуется, когда узнает, что был неправ. Не исключено, что это порадует и твоего отца. Мне надо с ним встретиться но делу не очень-то приятному — ты, наверно, в курсе. Но, может, у него станет легче на душе, когда о я узнает, как его парень угодил в «паноптикум» и по-свойски разделался там с «восковыми куклами».
Читать дальше
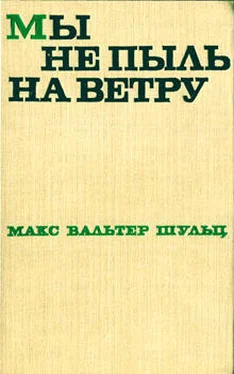





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)