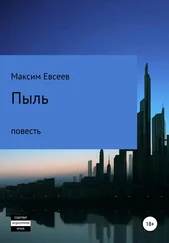Топай прочь, Хагедорн. Уходи и не прощайся. Иди туда, где никто тебя не знает, где никто не спросит, как тебя зовут, откуда ты пришел и почему ты глуп и нем и не можешь быть иным…
Дом, в котором жили Хагодорны, стоял над городом, там, где от круто забиравшей вверх каменистой дороги, что стороной огибала Рейффенберг, отходило к городу ровное и короткое шоссе. Дом был старый, с толстыми стонами и низко нахлобученной шиферной крышей. О таких домах в народе говорят, что его перешагнешь и не заметишь. Карниз лежал прямо на верхней перекладине двери. Этот дом, пожалуй, можно бы назвать «Укрытие»: он укрылся в тени старого каштана от полуденного солнца и за горой — от суровых северных ветров.
До кризиса дом принадлежал человеку, который арендовал у города старую, заброшенную базальтовую каменоломню, хотел на этом деле разбогатеть, но жестоко запутался в долгах, так как его базальт не мог конкурировать с пористым рейффенбергским. И когда бедняга совсем уж выбился из сил, у него отобрали дом за многолетнюю просрочку арендной платы. Социал-демократический состав магистрата решил тогда — дело было в тридцать втором — передать этот дом рабочему городского коммунального управления Паулю Хагедорну. Пауль с увлечением плотничал, и латал дыры, и подкрашивал, и подклеивал; отказался от обязанностей казначея, вышел из правления профсоюза и потому не пострадал, когда власть захватили фашисты. Первого мая тридцать третьего он утром вышел на демонстрацию, чертыхаясь про себя, присоединился к Рабочему фронту, а после обеда принялся наводить лоск на неровные каменные степы своего «Укрытия».
«Если в доме балки сгнили, значит, в нем растяпы жили» — такая у него с давних пор была присказка, а он не желал прослыть растяпой, безголовым и нерасторопным хозяином.
Вот и в этом году Пауль Хагедорн заново подмазал стены и залатал крышу, продырявленную пулеметной очередью с самолета. На пригорке под сенью могучего каштана блистал чистотой и свежестью старый дом. Но Руди не оглянулся. Как от погони, убегал он вниз по каменистой дороге. Прочь, прочь, только прочь отсюда! И чем дальше он уходил, тем горше становилась его обида: никто не распахнул в доме кухонное окно, никто не выбежал в сени, никто не крикнул вслед: Руди, Руди, останься!.. Нет, мать не крикнула, и Хильда тоже нет, а уж кому бы и крикнуть, как не ей! Все было тихо позади, когда Руди надумал совершить второй в своей жизни побег, только на этот раз — от самого себя. А можно, пожалуй, сказать и так: на этот раз — от любви. Идея бегства, смутная, рожденная упрямством и отчаянием, возникшая в ту минуту, когда он уронил на пол пеструю кружку, обернулась серьезным намерением. Но пока его мысли еще опережали поступки: он собирался для начала зайти к Вюншманам и пообедать у них, хорошенько пообедать. Кэте говорила, что у них будет сегодня суп с клецками, и приглашала его. Потом он снимет с вешалки свою истертую кожаную куртку, в которой лежит бумажник с регистрационной карточкой и правами, скажет Кэте: «Дай-ка мне сумку, я пойду, стану за картошкой. Сегодня в кооперативе дают картошку. Тебе и думать нечего идти туда в твоем положении. Там люди душатся до полусмерти…» Но сам он тоже не станет в очередь. А пойдет на почту и нацарапает открытку домой. Печально-гордые, задиристо-молодые слова будут в той открытке: «…ухожу на чужбину… хочу попытать счастья под беспощадным солнцем чужбины… Прощайте, мать и отец, прощайте, брат и сестры, прощай, Хильда, прощай и прости…», а дневным поездом без четверти час он навсегда оставит этот город. И тогда последний из детей покинет дом. Кэте вышла замуж, а младших, Кристофа и Бербель, мать отправила работать в деревню, потому что дома нечего было есть. И если настанет день, когда о нем, о Руди, скажут: он ушел на чужбину и сложил там голову— на кого ляжет вина? Да нн на кого. Розы цветут, не спрашивая почему, цветут ирисы и душистый горошек. И каштан шелестит, потому что должен шелестеть. А я ухожу, потому что должен уйти. Так вот и ходит человек по земле. И если он не верит больше в чужое сострадание, ему остается только жалость к себе самому. Не та ли это боль, которую поминал отец Леи? Поезд отходит без четверти час. Уж лучше послушать, о чем говорят друг с другом рельсы и колеса, шины и шоссе. Они больше знают о смысле жизни…
Погрузившись в бездну отчаяния, Руди даже забыл про клецки, которыми собирался как следует набить живот. Не думал он и о том, куда несут его ноги. Резкое «стой» грянуло как гром с ясного неба и на время пресекло его стремительный побег от себя самого и, может быть, от любви.
Читать дальше
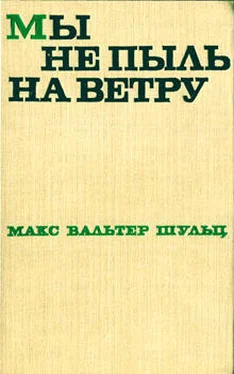





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)