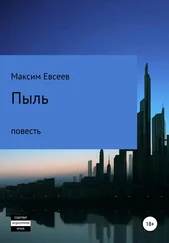Хильда на это не сетовала, считая, что на него опять «нашло», это ведь псе из-за войны и, конечно, пройдет, ведь уже не раз проходило. Но ничего не проходило. А когда Хильда поднималась наверх, Руди всегда что-то писал или читал книги, сохранившиеся у него еще с гимназических времен. Вот перед ним стоит чернильница и перо еще совсем мокрое…
Заслышав ее шаги по лестнице, он бросал исписанные листки в старый ларь. Она слышала только, как щелкал замок, и знала, что он всегда носит при себе старинный ключ с двойной бородкой. Мать, разочарованная в своем сыне, недолго оставалась безучастным зрителем этой драмы. Она открыла Хильде все карты, рассказала то, что ей было известно об отношениях Руди с фрейлейн Фюслер, и посоветовала ей немедленно переговорить с этим «ошалелым». Разговор состоялся в ночь, когда Хильда сошла вниз. И хотя в конце ночного препирательства все у них, казалось бы, пошло врозь, Хильда не утратила ни своей веры в него, ни даже любви.
— Я только рада, что Лея Фюслер вернулась и что ты можешь поговорить с ней. Иначе, чего доброго, мне пришлось бы всю жизнь играть роль заместительницы, а я на это не способна.
И он все снова и снова просил ее понять, что ему надо справиться с прошлым. Лея — единственный человек, который может ему в этом помочь. И потому-то он ей пишет письмо и ломает над ним голову, ибо оно должно стать чем-то вроде исповеди. Лея выслушает его и, наверно, ему ответит. Хильда может прочесть письмо, когда он его закончит, может прочесть и ответ Леи.
— Ты имеешь на это право, стало быть… Ну пойми же меня, пойми, пойми!..
Он так долго твердил одно и то же, что Хильде стало невмоготу его слушать. Она взяла подушку, одеяло и выходя сказала:
— У тебя язык заплетается, словно ты горячую картошку во рту держишь…
Он был уязвлен и обижен. Внизу, в спальне родителей, зашевелились. Сейчас мать встанет, молча заключит ее в объятия — одна немая другую. Руди выскользнул из постели, сел на старый ларь с выгнутой крышкой и продолжал писать свое письмо. У него сразу стало светлее на душе, груз его мыслей, казалось, согревал ему спину.
Теперь, наконец, он допишет письмо. Отчуждение Хильды и ее обидное замечание придали ему мужества. Он страшился конца этого письма, ибо конец, по его мнению, должен был подвести какой-то итог точным словом, точно выраженной точкой зрения. Убедившись в грубости чувств Хильды, он решился закончить письмо покаянной нотой, а решение передать в руки Леи.
Руди писал: «…вы видите, дорогая фрейлейн Лея, что я с трудом подыскиваю слова. Но теперь вы, наконец, все знаете обо мне. И то, как поступил со мной Армии, и то, как сложились у меня отношения с этой девушкой — Хильдой. Я откровенно высказал все, что обязан был высказать. Прежде я писал вам как ваш верный Гиперион, я хотел объясниться, когда приспеет время. Время уже переспело. Но я вижу, что для времени трудно подыскать такие же слова, как для яблок или картошки, словом, для всего, что зреет летом пли осенью и, созрев, проходит без следа. Ведь время, в которое мы живем, совсем иное, чем то, о котором я когда-то мечтал. Зеленым и кислым следовало бы назвать его, если уж придерживаться этих неточных сравнений. Мне долго, невесть как долго, не удастся построить ту прекрасную машину, на которой я мечтал повезти вас в Верону. Сон кончился. Мы проиграли войну. Повсюду, даже на фабрике, где работает отец, машины помечают крестом. Вскоре их демонтируют и увезут. Мастерская, в которой работаю я, обслуживает почти исключительно оккупационные войска. В нашем доме, в чердачной каморке, ютятся переселенцы, пожилые супруги из Чехии. Муж молчит с утра до ночи. Жена с утра до ночи плачется. Моя мать и Хильда чинят и штопают для них. И притом так усердно, словно их работа может изменить ход событий. Все кругом спекулируют, продают, перепродают. От русских шоферов мне время от времени перепадает килограмм-другой крупы или хлеба, если я в дьявольском темпе чиню их машины. Но если бы мы вобрали в себя души роботов, чтобы продержаться, то все равно были бы лишь собственными могильщиками и как бы мы ни вкалывали, а все равно сдохнем. Нет, я убежден, что мы можем продолжать свое существование, как люди и как немецкий народ, только если сумеем обновить свою суть и отказаться от посягательств на «мировой Дух».
Вот почему я и обращаюсь к вам, Лея. С тех пор как я знаю, что вы живы и вернулись к своему дяде, моему уважаемому учителю доктору Фюслеру, я знаю также, что у меня есть лишь одна надежда в жизни — истинное обновление в духе прекрасной, благородной человечности, которую вы всегда олицетворяли в моих глазах. Я взываю к вам, как Иаков к ангелу господню: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня»…
Читать дальше
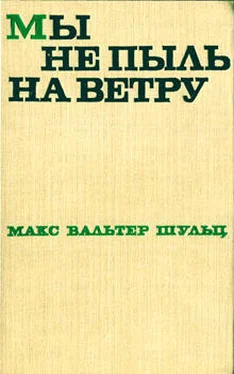





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)