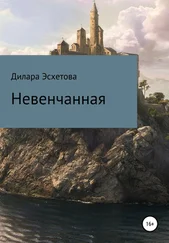…Вначале у Клевецкого даже дурной мысли не было. (Если, конечно, не считать того, что все его мысли были дурными). Можно сказать, хозяин сам заронил ему в душу нехорошее соображение — всё тянул, всё не решался, нагнетал напряжение перед тем, как сказать о личном сейфе. Уже одно то, как он смотрел на Клевецкого — доверить? Не доверить? — подсказывало возможность запретного хода. В результате — соответствующая мысль, а точнее — зародыш мысли чёрной пружиной засел в недрах его сознания. Но и это ещё ничего не значило. Почти ничего не значило. Мало ли какие мысли приходят в голову. Не всякой мысли дорогу даёшь. Но когда в сопровождении управляющего банком, с чемоданом в руке (обычный, кожаный, немного потёртый, только очень жёсткий — должно быть, на металлическом каркасе) Клевецкий вышел в коридор между кассовым залом и служебными помещениями, эта чёрная пружинка придержала его. Затоптался на месте, опустил чемодан на пол. Управляющий по-своему понял его. Участливо спросил:
— Вам надо уехать без «товарищей»? — и кивнул в зал, где находились кассир и один из охранников.
— Да. Не привлекать внимания. Задержусь, скажем, чтобы сверить счета… — начала раскручиваться чёрная пружинка.
— Но это ещё долго ждать. Пока оформят документы, пока пересчитают.
Клевецкий даже взмок от страха, делая усилие над собой. Убитым голосом сказал:
— Тогда я пойду!..
— Зачем же! — сказал управляющий тоном человека, который всё понимает. Он рад услужить своему другу Василию Николаевичу: — Могу выпустить вас через двор. У меня своя дверь.
И в считанные секунды Клевецкий с чемоданом оказался на Седьмой линии, куда выходили задворки банковского особняка. Суетливо семеня ногами и приседая на одну сторону, он быстро направился к заводу, к террикону Центрально-Заводской шахты. В любую секунду могли поднять тревогу, а его в Юзовке каждая собака знала, особенно среди «чистой» публики. Плыл в пространстве, как во сне, ещё не представляя себе, куда денется, пока взгляд не упёрся в знакомую вывеску «Фуксман и сын». Остановился, отирая уже несвежим платком пот со лба. Чемодан поставил на землю. И вдруг подхватил его и — бегом по улице, вдоль заборов, до знакомой калитки. Приоткрыл, прошмыгнул и остановился, подпирая её спиною. Он стоял во дворе Штраховых.
Встречаться со Степаном Савельевичем не хотелось. Тот мог выкинуть любую штуку, а вероятнее всего — выставить самого Леопольда. Элементарно взять за шиворот и — коленом под зад. А вслед за ним летел бы и его чемодан. Но в это время Штрахов наверняка на работе, он в такое время дома не бывает.
Побаивался и встречи с Диной: не имел ни малейшего представления о том, как она отреагирует на его появление. От неё можно было ожидать чего угодно, и в любом случае это «что угодно» окажется полной неожиданностью…
Если сейчас дома Мария Платоновна — не откажет в стакане чаю, ей можно и наговорить сорок бочек арестантов — поверит. Лишь бы жалостливо. Короче, можно провести час-другой до темноты. Однако лучшим вариантом была бы встреча с Тимохой. Тот хорошо знает, что за молчание платят. Доил бы, конечно, как мог, но молчал и помогал во всём.
Он направился было к флигелю Тимохи, но на крыльцо с вёдрами и коромыслом, повязанная по-старушечьи платком, вышла Дина. Долго смотрела на него, растерянно застывшего посреди двора. Вёдра из её рук выпали, со звоном покатились с порожка. Не замечая этого, она прошла к нему поближе, долго смотрела молча, а он глупо улыбался, что-то говорил…
— Проходи в дом.
Подхватил чемодан и взбежал на порожек. Увидел поваленные вёдра и про себя отметил: «С пустыми встретила». Дина вошла следом за ним в дом, лязгнула засовом, запирая дверь. Оказавшись посреди гостиной, пытался придумать что-нибудь подобающее случаю. Как-то заморожено она развязала платок, бросила на спинку стула… и с утробным стоном: «Поль!» — упала ему на грудь. Она плакала, её словно прорвало, с ожесточением говорила, что ждала этого часа, знала: он придёт. Он придёт, когда будет плохо, когда будет трудно, когда все от него отвернутся и некуда станет ему идти. Но первоначальное ожесточение всё размывалось и размывалось слезами, она уже не выговаривала ему, а жаловалась, всхлипывала, сладко стонала…
Опомнился Клевецкий уже в постели, когда она лежала обессиленная, затихшая и готова была слушать что угодно, любую чушь. Он стал плести ей про какую-то чудовищную клевету — его оговорили, преследуют, он вынужден скрываться и больше всего не хочет, чтобы о его появлении знал Степан Савельевич. Она успокоила: отец и мать поехали в Рутченково. Бабушка Надя собралась помирать.
Читать дальше
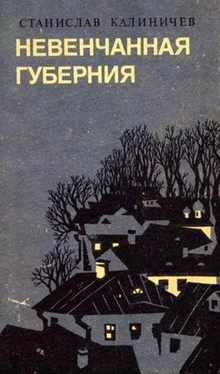





![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/422988/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta-thumb.webp)