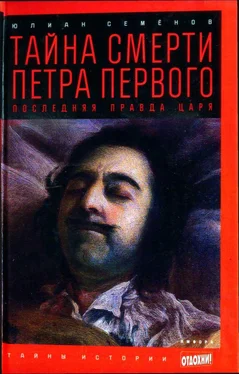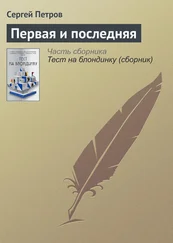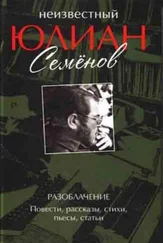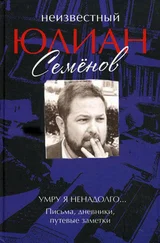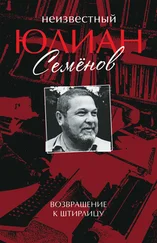Выпили; Петр закусил сыром.
— А знаешь, какова у меня самая любимая молитва? — спросил Петр задумчиво.
— Прочти.
— "Скорый в заступление и крепкий в помощь, предстани, благодатию силы Твоея ныне и, — благословив, укрепи, — и в совершении намерения благою дела рабов Твоих произведи; ибо всяк, кто хочет, как сильный Бог может творить!"
Никитин налил по стаканам остатки, заметив:
— Последние слова этой молитвы изменил ты: "…вся бо елико хочещи, яко сильный Бог творити можеши".
— Верно. Только что дает человеку силу: слово, которое он понял и почитает своим, либо же приказной текст, принужденный к зубрежке? Свое делает человека сильным, Иван, и ты это не хуже меня знаешь. И Танауэр, хоть меня красавцем малюет, это понимает. Кому из мужиков есть дар делать новое — те только и понимают смысл слова "свое", не шкурное в нем видя, а, наоборот, то, что ко всеобщему благу оборачивается.
— Ей-богу, вот бы тебя написать таким, каков ты сейчас, — сказал Никитин.
— Пиши.
— В один сиянс не уложусь, подари хоть три…
— Завтра у меня важный день будет, — задумчиво сказал Петр. — Может, самый в жизни важный… Проведу задуманное — подарю тебе три дня, обещаю. А теперь рассказывай, что сулил.
— Сейчас… Где, кстати, та гравюра, что ты самолично травил в Голландии у Шхонебека?
— "Победа христиан над исламом?"
— Да.
— Подарил князю Дмитрию Голицыну.
Никитин покачал головой:
— А боишься ты его.
— Боюсь я, только тогда когда дети болеют, Иван. А вот опасаться — опасаюсь: за ним бо-ольшое множество людей стоит, и все мои супротивники, все дремы ждут, в нашем ленивом неуправстве кого угодно винят, только не себя, и дела бегут.
— Зато Руси прилежны.
— Русь, коли в ней дело захиреет, станет вотчиной орды или провинцией австрийской короны, — отрубил Петр. — О Руси я более их скорблю. Когда я тебя к курфюрсту саксонскому Августу отправлял портрет его писать, намеренно ко всеобщему сведению распубликовал: "Пусть персону его спишут и с прочих, кого захочет, в особливо с виду, дабы знали все в мире, что и у нашего народу добрые есть мастера". И ты его так нарисовал, что по тебе, как по истинно русскому, слух прокатился через все европейские столицы. А это славу отечеству принесло! Кто ж более о Руси радеет? Они — ленью, али я — делом?! Ну, говори, жду, интересно!
— Помнишь свой первый портрет?
— Да я ж раздариваю их все Преображенским полковникам али послам, откуда мне помнить?
— А я на портреты живу, каждому веду учет, оттого — все помню. Так вот, первый парсун, писанный с тебя, может, еще в отрочестве, хорош не ликом твоим, не мыслью в глазах, не волею в лице, а соболями, в которые ты облачен, да горностаями, да алмазной цепью! Красиво написано, да только сказки нет, а потому от правды далеко!
— Верно говоришь, но — против себя, Иван. Коли меня Танауэр не может понять, потому как саксонец, отчего же англичанин Готфрей Ноллер в Утрехте, в девяносто еще седьмом году, сделал портрет и нет в нем соболей; пустые латы да лента, а я самого себя понимаю? Отчего?
— Оттого, что делал он портрет с юноши Петра Михайлова, вроде бы царя, а может, и не царя Московии, которая темна, далека и обессилена раздорами. Ежели бы он сейчас тебя писал — не знаю, сколько бы звезд на тебя возложил, сколько брильянтов и смарагдов… А Танауэр тебя понять не может не оттого, что кровью чужой, а просто таланту в нем немного, хоть сердечностью и знанием богат. Я ж против Иоганна Купецкого голос не подымаю, я ж колена перед ним готов преклонить, но он-то к тебе не пошел, он вместо себя Танауэра послал, тот сразу согласился, — еще бы, дурень не согласится, когда ты жалованья положил в пятнадцать раз больше, чем мне, своему живописцу!
— Нет пророка в своем отечестве, — улыбнулся государь, вспомнив отчего-то тонкое лицо Купецкого, когда тот приехал к нему в Карлсбад писать "портрет с персоны".
В тот день Петр работал в кузнице Карела, что в Бжезове, — ему нравилась прогулка в ту маленькую деревушку; он поначалу молча наблюдал умелость мастеров, стоя у раскрытых дверей кузни, а потом, сбросив кафтан, вошел, попросился к горну, поддал огоньку и пошел баловать с молотом — на удивление Карелу и его подмастерьям. Туда, в Бжезов, и привезли придворного живописца; тот глазам своим не поверил: чумазый государь великой империи хохочет, говорит с мастером на варварском немецком (явно слышится чешский акцент, — братцы-славяне одним миром мазаны), в работе сноровист.
Читать дальше