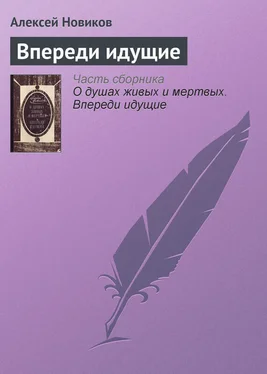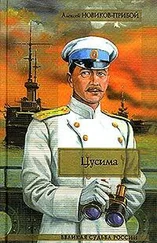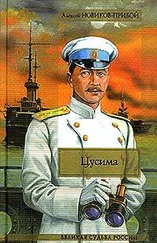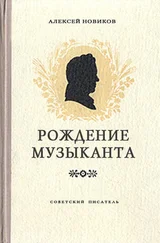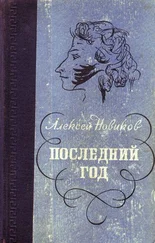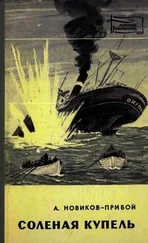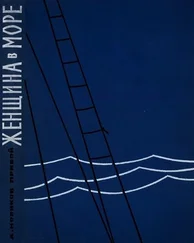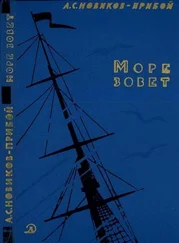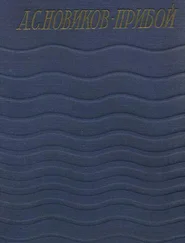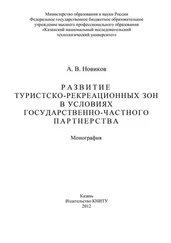Он по-прежнему служил в канцелярии военного министерства и по служебным своим занятиям знал, что с начала 1848 года в военном ведомстве шли чрезвычайные приготовления: готовился досрочный выпуск офицеров, войска продвигались к западным границам. Распоряжения русского правительства объяснялись кипением политических страстей во Франции. Чиновник Салтыков с жадностью ловил каждое известие из Парижа.
Повесть «Запутанное дело» шла своим чередом.
Однажды герой повести остановился у здания, залитого светом. Странная, искусительная мысль вдруг блеснула в голове его. Он вынул последний целковый и в одно мгновение очутился в театре, в пятом ярусе. В театре давали какую-то героическую оперу. На сцене волнуется и колышется толпа, и слышатся Ивану Самойловичу и выстрелы и звон сабель, и чуется ему дым. С судорожным вниманием следил он за представлением; он хочет сам бежать за этой толпой и понюхать заодно с нею порохового дыма…
Вовсе нет дела автору повести до того, что бедные люди, прочно занявшие главное место в произведениях натуральной школы, никогда еще не доходили до мыслей, от которых веет пороховым дымом.
А кончилось все куда как плохо для Ивана Самойловича – в полиции. Но попал он туда вовсе не за мысли, родившиеся в театре. Началось все с трактира, куда затащил его какой-то театральный любитель, который спрашивал, понравилась ли Ивану Самойловичу опера «с перчиком», и все предлагал соединиться в одни общие объятия. Новые знакомые пили в трактире много. А утром, когда очнулся Иван Самойлович, след простыл и от ночного приятеля и даже от легонькой шинелишки Мичулина. Остался только неоплаченный счет.
Жестокая действительность сызнова вступила в свои права. Мичулина обозвали шерамыгой и повели куда следует…
Когда несчастный вернулся в квартиру Шарлотты Готлибовны, горячка была у него в полном разгаре. Должно быть, уже в полном бреду очутился Иван Самойлович в совершенно неизвестном ему государстве в совершенно неизвестную эпоху, окруженный густым и непроницаемым туманом. Вглядываясь пристальнее, он вдруг увидел, что из тумана начинает отделяться правильная пирамида, составленная из людей, и в самом низу этого нагромождения увидел такого же Ивана Самойловича, как он сам…
Да откуда же появилась, хотя бы и в бреду, эта иносказательная пирамида? Ведь именно так изображал страждущее человеческое общество француз Сен-Симон. Вряд ли мог знать об этом Иван Самойлович Мичулин. Зато хорошо знал учение Сен-Симона Михаил Евграфович Салтыков. Он не верил в спасительную силу утопических рецептов. Но целиком разделял убийственную критику существующих на земле порядков, которой усердно занимались создатели утопических схем.
Пирамида, привидевшаяся в предсмертном бреду Ивану Самойловичу, была последним прозрачным намеком из тех, которыми насытил «Запутанное дело» автор.
Герой повести умер в горячке. Как полагается, Шарлотта Готлибовна пригласила полицейского чиновника.
– Скажите же, пожалуйста, господа, – обратился он к жильцам, – что бы это за причина такая, что вот-вот жил человек, да вдруг и умер?
– По мечтанию пошел, – объяснил Иван Макарыч Пережига. – Уж какую он в последнее время ахинею нес, так хоть святых вон понеси: и то не хорошо, и то дурно…
– Тс-с-с, скажите пожалуйста! – полицейский чин с упреком покачал головой…
Запутанное дело пришло к концу. А кто его распутает? Кто истребит ненасытных волков, которые явились в иносказательном сне героя повести? Этого не знает и сам автор «Запутанного дела». Но разве не приближают желанное время писатели, которые освобождают литературу от бесстыдной лжи?
…Получив отказ от Панаева напечатать повесть в «Современнике», Михаил Евграфович Салтыков передал «Запутанное дело» в «Отечественные записки», а сам ходил в канцелярию и по-прежнему числился первым аккуратистом среди молодых чиновников. В разговорах и с сослуживцами и со знакомыми он жадно ловил каждое известие из Франции. Что, если толпа, которая привиделась в театре герою «Запутанного дела», появится во Франции не в театре, а на исторической сцене, и перевернет, опрокинет пирамиду, изображенную Сен-Симоном?
В Европе все чаще появляются переводы сочинений Гоголя. В Праге вышли: «Шинель», «Невский проспект», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Тарас Бульба». «Тарас Бульба» переведен и в Копенгагене. В Париже, где уже давно знают повести Гоголя, в журнале, издаваемом Жорж Санд, пишут о «Ревизоре» как о самом высоком драматическом создании, какое когда-либо являлось в русской литературе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу