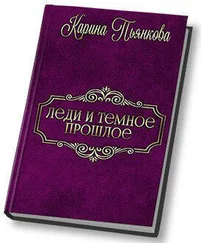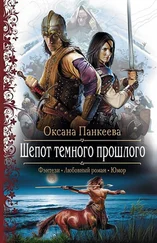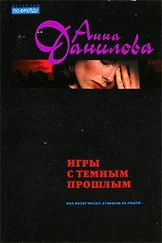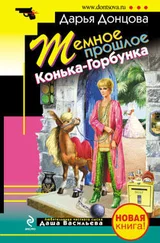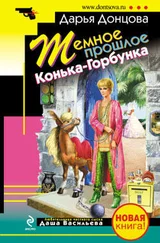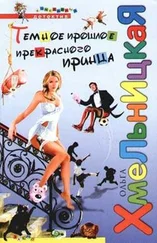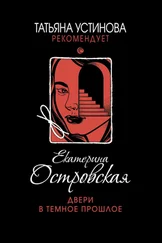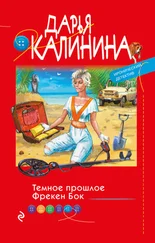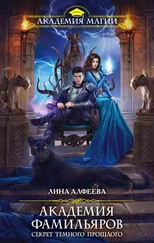Кутузов же в разговорах с имамом, не утерпев, обмолвился однажды о необычной девушке, с которой свела его судьба. Дениз с большим интересом выслушал об удивительных способностях Василисы и выразил желание помочь ей в ее трудах. Вернувшись в лагерь, Кутузов передал Василисе в подарок от имама колючее растение, предусмотрительно завернутое в платок. Нетерпеливо развернув его, девушка увидела округлый толстый стебель и расходящиеся от него, как лучи звезды, сочные узкие листья, унизанные колючками.
– Имам сказал, что его сок заживляет раны и возвращает коже молодость, – с удовольствием видя, что доставил девушке радость, – сообщил Кутузов. – А если смешать его в равных частях с медом и красным вином, то восстанавливает силы.
Василиса с уважением рассматривала чудодейственное растение. Затем с не меньшим уважением перевела взгляд на Михайлу Ларионовича.
– Удается же вам и врага к себе расположить! – восхитилась она.
– А как же без этого? – наслаждался ее восхищением Кутузов. – С кем воюешь, того понимать надобно, а проявишь к человеку интерес – он к тебе дружбу питать начнет. С людьми управляться – отдельная стратегия, – гордясь собой, добавил он.
Василиса промолчала – что-то в его последних словах заставило ее испытать напряжение.
– Ну а ты заводи себе аптекарский огород! – уже другим, веселым и легким тоном, посоветовал Кутузов, заметив ее опущенный взгляд. – Трав лечебных я тебе еще достану.
Василиса задумчиво улыбнулась:
– Живой воды бы где найти!..
– Спрошу о том у имама, авось подскажет! – с полной серьезностью пообещал Кутузов, взглянув ей в глаза на прощание и оставив у лазарета с животворным и колючим подарком в руках.
* * *
Всего несколько месяцев успела провести Василиса в лазарете, а ее служение уже воспринимали так же естественно, как и службу любого другого воина. Хотя на деле медсестра в армии XVIII века, да и любого другого предшествующего столетия была явлением уникальным: на протяжении долгих веков воюющие мужчины обходились без их помощи. Регулярная медсестринская служба возникла лишь в середине XIX столетия в ходе последней русско-турецкой кампании; до того времени раненых поручали, рабам, товарищам-солдатам, монахам или Господу Богу в зависимости от того, на какой исторический период мы бросим взгляд. Этот факт вызывает не меньше удивления, чем пресловутое отсутствие колеса у южноамериканских цивилизаций, но после краткого экскурса в историю удивляться будет, пожалуй, нечему.
Прежде всего, вспомним о том, что до того, как начала широко применяться анестезия (середина XIX века) и антибиотики (середина XX века), раненые умирали быстро. Максимум, что могли сделать для человека – это вынести его с поля боя, промыть рану, перевязать ее (перед глубокими внутренними повреждениями врачи были бессильны), и предоставить страдальца его судьбе – ведь никаких сколько-нибудь эффективных обеззараживающих и болеутоляющих средств попросту не существовало.
Но и на этот необходимый минимум раненый мог рассчитывать далеко не всегда. Как правило, его участь всецело зависела от сострадания товарищей по оружию. И тут древние цивилизации дают огромную фору не только средневековью, но и новому времени.
Согласно древнеиндийскому трактату «Веда», раненые помещались в специальных палатках, снабженных железными кроватями, а врач обязан был иметь при себе не меньше 127 различных инструментов, включая сильный магнит для извлечения глубоколежащих обломков стрел.
Древнегреческие авторы, начиная с Гомера, постоянно упоминают военных лекарей (при осаде Трои их было аж двое на целую армию!), которые извлекали наконечники стрел, отсасывали из раны кровь и посыпали ее успокаивающим зельем. Солон заботился об организации государственной помощи раненым воинам. Аристид упоминал о том, что в Афинах существовали специальные военные больницы. Ксенофонт описывал, как во время одного из походов движение греческих войск было остановлено на 3 дня для ухода за ранеными. Однако присутствие врача в армии все же не считалось чем-то само собой разумеющимся. Например, перед походом Алкивиада в Сицилию в народном собрании всерьез обсуждался вопрос: посылать врача в эту экспедицию, или нет. И Гиппократ, чьим именем клянутся современные медики, предложил отправить с войсками своего сына.
Рим, по сравнению с Грецией, шагнул далеко вперед, благодаря безупречно четкой организации. Каждый легионер обязан был иметь при себе перевязочные средства, а специальные команды носильщиков организованно доставляли солдат с поля боя в лагерь. Позднее им даже стали платить за эту услугу, но, к счастью, раскошеливаться приходилось не самому спасенному, а государству, которое оценивало каждую выжившую человеко-единицу в золотую монету. В лагере раненый тут же попадал в руки врачей (по 4 лекаря на когорту в 1000 человек) и вздыхал с облегчением: система – великое дело! Уход за выздоравливающими поручали рабам (что, вероятно, делали и греки). Даже больных военных лошадей лечили в особых стойлах под названием Veterinaria! Императоры любили посещать лазареты для поднятия воинского духа, а врачам ставили памятники, как тот, например, что был найден в веками позже в Швейцарии. Надпись гласила: «Клавдию Гимносу – врачу 21 легиона».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
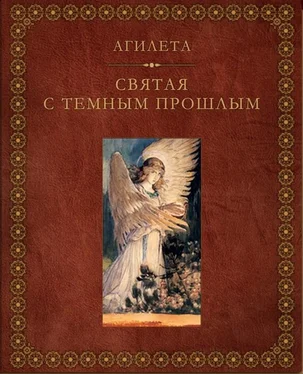

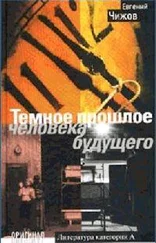
![Оксана Панкеева - Шепот Темного Прошлого [litres]](/books/58291/oksana-pankeeva-shepot-temnogo-proshlogo-litres-thumb.webp)