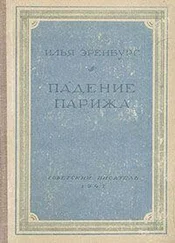8
В событиях тех лет, при всей их внешней пестроте и помпезности, было некое однообразие. Модницы меняли парики, республиканские армии побеждали, народ умирал с голоду, и что ни месяц в Париже вспыхивал бунт — якобинцев или роялистов — по очереди. Все презирали случайных правителей Франции, но никто не мог вырвать власть из их слабых и вдоволь трусливых рук. В дни прериаля Конвент спасли «молодцы Фрерона», скрытые роялисты, уцелевшие аристократы. Они ненавидели Тальена, Барраса, Карно, но они их спасли: из двух зол они выбирали меньшее.
Прошло четыре месяца. Тринадцатого вендемьера решили попытать счастье роялисты. Генерал Мену, храбро стрелявший в рабочих Сен-Антуана, тотчас отдал приказ об отступлении, увидев кучку щеголей. Члены Конвента готовы были разбежаться. С какой охотой они бы сдались! Одно удерживало их: страх. Ведь это они послали на эшафот Людовика. Все эмигранты клялись: «Нет пощады цареубийцам». Трусы были снова спасены мужеством уцелевших патриотов, а также находчивостью молодого генерала по имени Буонапарте.
Баррас красноречиво прославлял победу. Появились темные парики. Голод все усиливался, и тюрьмы не пустовали. Конвент одобрил новую конституцию и приступил к выборам Директории. Правительство ненавидели и рабочие, и буржуа, и аристократы. Многие хранили еще душевный жар, и готовность умереть за Францию, кто под республиканским флагом, кто под хоругвями вандейцев. Но среди страстей, смуты, голода, ассигнаций, ненависти бывший виконт Баррас продолжал целовать ручки Терезы и самодовольно улыбаться.
Изнеможение страны, явившей миру примеры подлинного героизма и пламенности, — какая благодарная тема для художника! Однако во Франции не было ни поэтов, ни писателей, ни драматургов. Андре Шенье погиб на гильотине. Брат его Жозеф был излюбленным автором эпохи. Он писал посредственные пьесы о гибели тиранов и патриотические стихи на случай.
Театры показывали агитационные фарсы или аллегорические трагедии, сочинения безграмотные и бездушные. Один и тот же автор ухитрился до термидора написать «апофеоз Марата», а год спустя «апофеоз Шарлотты Кордэ». После Расина, Мольера, Бомарше актеры разыгрывали трагедию покровителя Бабефа, Сильвана Марешаля: «Последний суд королей». Слов нет, у Марешаля были и гражданские чувства, и отзывчивое сердце. Талантами драматурга он, однако, не отличался. В его пьесе санкюлоты всех стран соединялись. Они ссылали королей на необитаемый остров. Там Екатерина Великая плакала на животе у римского папы. Потом происходило извержение вулкана, и все короли летели в море под пение «Марсельезы». Эту пьесу играли, разумеется, в 93-м. После термидора ее заменил «Кабинет террористов», где подло и тупо высмеивались вчерашние герои.
В «Альманахе муз» или в «Играх Аполлона» печатались скучные приторные стихи, изобилующие словами «тиран», «деспот», «знамена», «цикута», «Ликург», «Брут», «децимвират». Никто из переживших революцию не знал, как ее описать. Публика читала переводные романы с английского. В Гренобле двенадцатилетний мальчуган Анри Бейль глядел на беглых монахов, на уличные танцы, сначала на повешенных аристократов, потом на повешенных якобинцев, на быструю смену властей, песен, эмблем, — это будущий писатель Стендаль учился науке человеческих страстей.
Пошлые трагедии, последние пасторали, неумелые портреты новых богачей (с обязательными чертами аристократов), Шекспир в переделке Дюси, памятники «Гидра контрреволюции», аллегории, выстрелы, скука. Два человека подымались над грустной угодливостью своих собратьев. Они были связаны общей любовью к искусству Эллады, уроками революции, наконец — человеческой дружбой. Тальма был актером, Давид живописцем. Может быть, они и были слишком мелки для французской революции, для революционной Франции они были куда как велики. Их порой хвалили, порой ругали. Мало кто их понимал. Позднее оба дождались признания, богатства, почестей, но в годы владычества блудливой Терезы Давид сидел под замком за дружбу с Робеспьером, а Тальма что ни день подвергался оскорблениям молодчиков Фрерона.
Давид и в тюрьме продолжал работать. Он мог бы пасть духом: он ведь мечтал о торжестве разума, о воскресшей Элладе, о народных празднествах на площадях, о новом Париже прямых, широких проспектов, ясном и точном, как геометрическая фигура. Вместо этого он увидел только котурны на ножках Терезы. Тогда он вспомнил: искусство! Пусть из зала Конвента выкинута его лучшая картина: «Смерть Марата». Пусть сам он брошен в острог. Пока в его руке кисть, он может бороться. На полотне выполнит он то, что не удалось ему выполнить в жизни. И Давид задумывал большие полотна, где сердце должно уступить место вычислениям. Давид ведь недаром любил Робеспьера, подобно Максимилиану он презирал хаотичность чувств. Как-то в начале революции старик Фрагонар сказал ему: «Я дивлюсь вашему мастерству, но у вас нет чувствительности. Молодые следуют за вами, и вы смеетесь надо мной. Что же, настанет пора, когда будут вас отрицать, а на моих полотнах учиться. Рассудочность и чувства издавна сменяют одно другое. Только гений совмещает точность формы с биением сердца». Давид был слишком страстен, чтобы согласиться с Фрагонаром. И Давид верил, что «Похищением сабинянок» откроет новую эру в искусстве, достойную великих греков.
Читать дальше