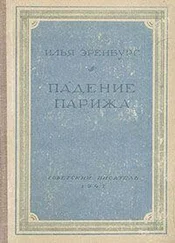Наконец просвет: заслушав рапорт о суде над Бабефом, Конвент отменяет приговор. Дело переходит в суд департамента Эны, а Бабефа отправляют в тюрьму Лана. Вопрос о жалобе какого-то осужденного патриота проходит незамеченным: «Дурак, он должен быть счастлив. Его обвиняют в подлоге? Да, если бы он был на свободе, его обвинили бы в контрреволюции». Гильотина работает без передышки. Всего несколько дней тому назад Париж ахнул, увидев в руке палача огромную голову Дантона. Какое кому дело до фермы Фонтэн и до друга сен-жильских бедняков?.. Идет крупная игра: «Неподкупный» борется с изменниками.
А Бабеф все сидит и сидит в тюрьме. Революцию он видит сквозь острожную решетку. Он видит не ее парадные залы — не декрет о бессмертии души, не улыбку красавца Сен-Жюста, не победы патриотов, не Робеспьера, который, сдувая с безукоризненного фрака пушинки и скрепляя на ходу приговоры, следует к всеобщему благоденствию, нет, Бабеф видит черный ход революции: нары, солому, слезы новичков, судороги приговоренных, телеги, объятья, ужас, агонию.
Может быть, не раз в эти душные летние дни, когда потные члены трибуналов во всей Франции трудятся не покладая рук, день и ночь подписывая смертные приговоры, когда среди высоких замыслов и среди липкой крови изнемогают оба — и Максимилиан Робеспьер и французский народ, когда революция, как солнце в зените, невыносимо ярка, когда она готова сгореть, изойти, надломиться, когда слишком много гордости, пафоса и преступлений, может быть в эти душные ночи 94-го года не раз Бабеф вспоминает другую ночь, столь же душную, голову Фулона, дрожь при виде первой крови, жесткую зарю необычайного дня.
Пять лет тому назад или сто?.. Давно! В те времена, когда люди еще улыбались…
5
Бабефа освободили тридцатого мессидора: трибунал департамента Эны не нашел состава преступления. Бабеф хотел тотчас уехать в Париж. Задержала его болезнь сына. Таким образом, девятого термидора он был в Лане. Как вся Франция, узнав о падении Робеспьера, он наивно воскликнул: «Кромвель погиб! Революция продолжается!» Он слишком долго дышал тяжелым воздухом тюремных камер, чтобы не обрадоваться речам о свободе. Легко писать «истребим трусливых, недостойных, колеблющихся», много труднее видеть что ни день телеги, груженные человеческим мясом, слышать на соседних нарах визг, плач, бред приговоренных. Опыт сердца оказался сильнее политической стратегии. Бабеф был горяч, вспыльчив и добр. Он не был героем ложноклассических трагедий в духе своего времени. Он был живым человеком. Он возненавидел доносы, животный страх, гильотину. Когда в Париже монтаньяры, да, да, свои монтаньяры, не предатели из Жиронды, не роялисты, свалив Робеспьера, провозгласили: «Довольно крови!» — Бабеф горячо зааплодировал.
Разве он знал, кому аплодирует!.. Громкие слова посредственных риторов потрясли его до слез. Он поверил бывшему дворецкому Тальену, убийце и грабителю, который, накрытый Робеспьером с поличным, спасая свою шкуру, бряцал в Конвенте игрушечным кинжалом. Он поверил развратному Баррасу, болтуну Фрерону, лисе Фуше. Бескорыстный друг Фуше — как же ему не верить?.. Он поверил шайке трусливых разбойников, которые боялись Робеспьера не как тирана, не как Кромвеля, но как полицейского, готового схватить их за шиворот и вытряхнуть из карманов фамильные драгоценности, снятые с живых или с мертвых аристократов. Эти грабители умели изысканно изъясняться. Им поверила Франция. Им поверил и Бабеф.
В 89-м году все думали, что революция кончится через несколько недель. Теперь, проходя мимо раненого Робеспьера, члены Конвента кричали: «Да здравствует Революция!..» Теперь все были уверены, что революция бессмертна. Несколько голов покатились?.. Что ж, после Геберта — Дантон, после Дантона — Робеспьер. Это только мелкая хозяйственная перестановка. Новые правители отнюдь не думали о конце революции. Они искренне ее любили — одни за «Декларацию прав», другие — за реквизированные бриллианты.
Десятого термидора гравер Моклер на улице Труа Канет перерезал себе горло бритвой. Он оставил записку: «Пистолет дал осечку. Попробую снова… Жить я не хочу — вчера революция погибла…» Патриоты смеялись над глупым гравером. Они говорили: «Революция теперь только начинается»… О Робеспьере рассказывали диковинные небылицы, все верили им, потому что хотели верить. Оказывается, «Неподкупный» хотел жениться на дочери Людовика XVI, тогда иностранные дворы его признали бы, как они признали российскую Екатерину… Народ, еще вчера обожавший Робеспьера, гоготал:
Читать дальше