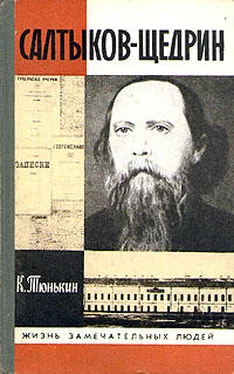Тогда врачами было сочтено необходимым послать на лечение грязевыми ваннами детей Салтыкова: ведь почти всю зиму они не выходили из болезней. 23 мая отправил семейство за границу, в Бад-Эльстер. Сам же задумал обосноваться где-нибудь поблизости от доктора Николая Андреевича Белоголового, врачебным советам и указаниям которого беспредельно верил. Один, «слепой и с дрожащими руками», ехать, однако, не решался. Хорошо, что согласился сопровождать доктор Руссов, отправлявшийся 18 июня.
После окончания седьмого «письма» работа совсем не клеилась. Решил съездить на несколько дней к старому другу Алексею Михаиловичу Унковскому в его имение — сельцо Дмитрюково, на границе Тверского и Старицкого уездов.
Салтыков любил бывать у Унковского в деревне, здесь, поблизости от родной Твери и столь же родной Москвы. Ему все мечталось о каком-то собственном доме, подобном небольшому имению Унковского — с хвойным лесом, гречишным полем, прозрачной речкой или заглохшим прудом, может быть, даже старым садом, где в аллеях благоухают столетние липы. Михаил Евграфович уже давно был дружен с Алексеем Михайловичем, а теперь, вдали от собственных детей, он перенес всю свою нежность на детей Унковского, просил двенадцатилетнюю Соню Унковскую приписывать несколько строк к своим письмам к дочери Лизе. Да не о чем писать, — отнекивалась Соня. Как же не о чем? «Пиши все, что тебе придет в голову, ей там, за границей, все будет интересно; вот я сейчас видел из окна, как у тебя сорвало с головы ветром в саду соломенную шляпу, а ее подхватил щенок, ты и это напиши, ей будет интересно».
«Его привозили в закрытой карете на четверке, — вспоминала Софья Унковская. — У нас он был обыкновенно в хорошем настроении духа: пил воды, гулял с отцом по липовым аллеям сада, писал в кабинете. Вскоре по приезде обязательно посылал в село за батюшкой, любил с стариком попом потолковать о разных вещах, а также поиграть с ним и моим отцом в дураки. «У вас поп преумный», — говаривал он, угощал его вином на террасе и вообще благодушествовал. Салтыков был большой любитель животных, особенно собак, а у нас в деревне было всегда не менее пяти черных «водолазов», да еще несколько гончих собак. Обед наш происходил обыкновенно в липовой аллее, и после обеда Михаил Евграфович нес каждый раз на тарелке остатки от обеда и угощал свою любимую собаку».
Кажется, эти три дня в Дмитрюкове были последними днями, когда болезнь пощадила, отступила, дала передышку. Но они пролетели мгновенно, и уже перед отъездом из Петербурга за границу Салтыков почувствовал себя очень худо. Он почти не спал, волнуемый предстоящим путешествием по железным дорогам, да еще с пересадками, да еще сплохим знанием немецкого языка. Руку и плечо дергала и тянула непрестанная боль, похожая на пиленье тупым ножом: «Когда эти боли наступают, — а продолжаются они целые часы, — то я не знаю, куда деваться. Я не хожу, а шатаюсь от слабости, и писать почти не могу, хотя это для меня необходимо в смысле насущного хлеба». Наконец, 21 июня он приехал к семье в Бад-Эльстер, к семье, которую он страстно любил, но которая, к великому для него, несчастью, не понимала ни глубины его страданий как больного, нуждающегосяв покое человека, ни всей той боли, что рвала его сердце писателя-сатирика. «Я весь дрожу, — пишет он Н. А. Белоголовому в день приезда, каким-то дрожащим, с пропусками букв, сильно изменившимся почерком, — и одышка такая, что сплю не больше четырех часов в сутки. По дороге из Берлина сюда должен был в Рейнбахе остановиться в такой гадости, что с души воротило. Еще особенность: почти совсем не ем. Я уже не о смерти думаю, а о том, что очень тяжело. А меня только и делали, что гнали все за границу. А теперь кстати холодище. Подлые комнаты, гнусный немецкий язык, соседи, которые при малейшем шуме стучат в дверь, — словом сказать, все подлости бродячей жизни. И все это для человека, который давно умирает и может существовать лишь при безусловном спокойствии».
Приехав в Эльстер, Салтыков не собирался оставаться там долго: лишь до окончания курса лечения детей грязевыми ваннами. Он стремился в Висбаден, где жил тогда доктор Белоголовый и остановился нанекоторое время скитавшийся по европейским курортам пораженный недугами бывший «диктатор» Лорис-Меликов.
Салтыков уже не верил тем советам и тем лекарствам, что прописывали ему петербургские доктора, даже такой авторитет, как С. П. Боткин. Он очень надеялся на помощь опытного Белоголового.
Читать дальше