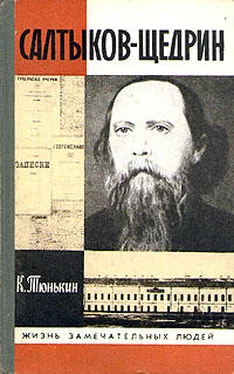Итак, он был ужасен.
Уж на что отвратительны Василиск Бородавкин и Дементий Брудастый, но и у них были какие-то, пусть извращенные, дикие проявления человеческих свойств — воинственная предприимчивость или безумная ярость.
В числе же элементов, составлявших природу Угрюм-Бурчеева, отсутствовали всякие следы страстности, замененной «непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма». Идеалом его была прямая линия, доведенная до наготы. «Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще», никаких естественных проявлений которой он не понимал; разума не признавал вовсе.
Угрюм-Бурчеев символизирует идею самовластия в ее, так сказать, до предела очищенном виде — очищенном от каких бы то ни было случайностей, извилин и красок, очищенном от всякой живой, движущейся, переливающейся человечности, — власть в ее стерильном, беспримесном виде. Портрет Угрюм-Бурчеева, сохранившийся в городском архиве, — это лицо такой власти.
«Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы... Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...
Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение».
Впечатление от внешности Угрюм-Бурчеева действительно тяжелое и мрачное. Сатирически-характернейшее и в этом смысле — ярчайшее воплощение самовластья как такового, это портрет властного ничтожества — серый, стертый, мертвый, как та солдатская шинель, которая нависла над ним вместо неба.
Угрюм-Бурчеев и в самом деле принял мрачное решение, ускорившее трагически-загадочный конец глуповской истории. «Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности и будущего устройства этой злосчастной муниципии».
Идеальный город представлялся Угрюм-Бурчееву в таком систематизированно-регламентированном виде. Располагался он, естественно, на совершенно ровном, плоском месте, где не должно быть ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка, ничего, нарушающего идею прямизны и единообразия. Посредине этого города — «площадь, от которой радиусами разбегаются улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт <���предместье>, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету». Ничто, находящееся или живущее за этой темной занавесью, для Угрюм-Бурчеева не существовало. Там была просто пустота.
Предполагалось, что каждый дом, или поселенная единица, имеет три окна и выкрашен в светло-серую краску; количество живущих в доме людей и животных также тщательно усчитано и раз навсегда определено. «Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в том случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек».
Предусмотрены всякие манежи для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для совместного принятия пищи и т. д., но школ не полагается.
Время признается как бы несуществующим: «нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется».
«В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство <���уравнительство>, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, — вот сущность этой кантонистской 34 34 Кантонистами назывались дети солдат в «военных поселениях» Аракчеева.
фантазии...»
Читать дальше