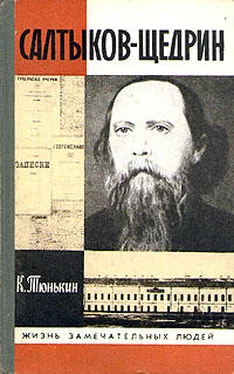Но этот страстный призыв не может быть обращен ко всем без изъятья. Салтыков еще и еще раз обдумывает тактику действий передового общественного деятеля, в такую эпоху, когда ниву жизни заполонили «мальчики», а масса коснеет в невежестве, бессознательности и тяжком труде, лишь в редкие моменты истории заявляя о себе плодотворно и прочно. «Мальчишкам» Салтыков может делать выговоры, не признавать их принцип «со временем», их «скромное химическое изучение»; их можно и нужно со всей силой убедительности призывать «поставить свою деятельность на почву реальную».
Но Салтыков готов признать, что есть и другие люди — особенные. Их запрос к жизни поражает своей громадностью, их идеал распространяется так неизмеримо далеко, что не имеет ничего общего с текущей действительностью, с практической деятельностью на почве реальности. Это идеал всеобщий, всечеловеческий, вековечный. Главное их человеческое качество — абсолютная непримиримость, неумение и нежелание идти на уступки, даже непонимание того, что такое уступка; они «непрактичны» в высоком смысле слова. Когда Салтыков писал о таких людях в апрельской хронике, он думал, конечно, об арестованном Чернышевском, о его социалистической утопии. Его влечет и поражает сама эта удивительная личность и вообще тип людей такого склада. Он, вероятно, вспоминает своего многолюбимого учителя Петрашевского, он не может забыть и судьбу социалистического пророка Шарля Фурье. Как мыслят эти люди? «С одной стороны, подробный анализ разнообразных положений, в которых находился человек при испытанных доселе порядках, доказывает совершенную несостоятельность этих последних; с другой стороны — столь же подробный анализ свойств человека и его отношений к внешней природе указывает на возможность другой действительности, действительности разумной и для всех одинаково удовлетворительной. Строгим, почти математическим процессом мышления человек доходит до сознания идеала и с высоты смотрит на действительность. На этой высоте мысль, отрешенная от реальной почвы, питается своими собственными соками и даже приобретает способность создавать свои собственные живые образы <���речь идет, конечно, о романе Чернышевского в в первую очередь>. Понятно, что при таком богатстве внутреннего содержания разнообразные, но бедные и тощие мотивы жизни действительной должны казаться не более как безразличным дрязгом, к которому надлежит относиться не с ненавистью или отвращением, а с полным равнодушием».
Такие люди — цвет человечества, они созидают и хранят великую мысль и великую надежду, они всегда готовы на вдохновляющий подвиг ради всечеловеческого идеала. (Как тут не вспомнить толкование Салтыковым картины Ге «Тайная вечеря».) Но они — не практики, им необходимы «прозелиты» — верные ученики и проповедники их учения в массе, ученики, которые уже не имеют права на брезгливость и равнодушие по отношению к действительности, какой бы она ни была, чернорабочие мысли, которые своей повседневной практической работой, а если нужно — и. своей кровью — «утучняют почву» (как было сказано еще в «Каплунах»).
В апреле 1864 года Салтыков вновь откликнулся на статью Писарева «Цветы невинного юмора», поднял брошенную критиком «Русского слова» перчатку. В этом отклике опять-таки звучит «глуповская» тема. С полной и даже вызывающей откровенностью Салтыков определяет свою читательскую аудиторию: это глуповцы, кровно и безотлагательно нуждающиеся, однако, не в естественнонаучных знаниях, а в свержении с пьедесталов и оплевании старых идолов, которые еще представляются им богами. Да, сознание глуповцев требовало «просветления», но просветить его могло только освобождение от призраков их гражданского, общественного бытия. «На днях, — пишет Салтыков, — один из знаменитейших наших ерундистов <���то есть Писарев> упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель! И думал, вероятно, что до слез обидел меня такою острою речью. А вышло совсем наоборот: я принял эту речь себе за похвалу. Неужели же вы думали, милостивый государь, что я пишу не для глуповцев, а желаю просвещать китайского богдыхана?.. Я деятель скромный и в этом качестве скромно разработываю скромный глуповский вертоград. Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком им понятным и очень рад, если писания мои им любезны».
Апрельская хроника не была напечатана, может быть, опять отвергнута редакцией: ведь в ней, пусть в несколько иной форме, в далеко зашедшей полемике с «Русским словом», развивались мысли, впервые высказанные в «Каплунах».
Читать дальше