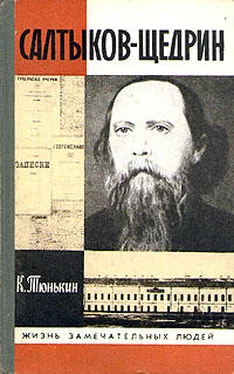В противоположность суровому добролюбовскому приговору «талантливым натурам» какая-то даже несколько неожиданная нежность звучит в характеристике живого образа народной массы, многоликой и многозвучной толпы богомольцев и странников, проходящих по страницам «Губернских очерков». Именно в то время, когда в творческом сознании Салтыкова рождалась сказочная «запевка» о судящем, рядящем и правящем Иване-дураке, Добролюбов проницательно увидел в авторе «Губернских очерков» защитника народа «от всякого рода талантливых натур и бесталанных озорников». Щедрин «любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках... Тут нет сентиментальничания и ложной идеализации; народ является как есть, с своими недостатками, грубостью, неразвитостью».
Добролюбов, наверное, сам того не зная, поддержал Салтыкова в момент тяжелый и смутный, в дни, когда мысль и фантазия работали напряженно и творчески, когда замыслы радостно роились в голове, требуя воплощения, но когда росли беспокойство и тревога. Репутация обличителя бюрократии не сулила ничего доброго, а особенно Салтыкову, который сам был «действующим» бюрократом — чиновником, близким к самым верхам правительственной иерархии. Министру Ланскому, очень ценившему служебные способности и трудолюбие своего чиновника особых поручений, приходилось — из-за Салтыкова и другого литератора-обличителя, служившего в министерстве, П. И. Мельникова (Андрея Печерского) — постоянно отражать недоброжелательные нападки со стороны высокопоставленных сановников. Особенно донимал мягкого Ланского непримиримый консерватор и крепостник граф Панин, который даже жаловался царю, что стало невозможно министерством управлять — обличительная литература во все вмешивается.
Где-то в октябре—ноябре 1857 года Ланской призвал к себе Мельникова и потребовал, «чтобы тот не писал в журналах». Через много лет Салтыков вспоминал: «Мельников прибегает ко мне и сообщает об этом. Ну, стало быть, и до меня дело касается. Иду к Ланскому. Спрашиваю его. Старик весь покраснел и говорит: «Это до вас вовсе не касается». Однако все-таки это очень и очень Салтыкова касалось. Ведь именно осенью его письма вскрывались (перлюстрировались) в III отделении, а в октябре в этом малопочтенном учреждении завелась даже переписка, в которой Салтыков упоминался как «человек безнравственный и сатирик, нерасположенный к правительству», и агент-осведомитель даже предлагал произвести «обыск его бумаг». Вряд ли такой обыск был произведен, однако соответствующие предупреждения «быть осторожным» Салтыков, конечно, получил, что заставляло его на какое-то время прекратить печатание своих новых произведений, по крайней мере до тех пор, «покуда не разъяснится мрак, скопившийся на моем горизонте». Письмо к Е. Ф. Коршу, где находятся эти слова, было написано 10 декабря 1857 года, и как раз в эти дни читал Салтыков статью Добролюбова.
Служебные неурядицы, все эти начальственные предупреждения и предостережения по поводу печатания его произведений вновь и вновь напоминали о том неустойчивом равновесии между службой и литературой, в которой он находился уже почти два года, с начала писания «Губернских очерков». Он по-прежнему служил честно и добросовестно — по крайнему своему разумению; он считал свою службу полезной, в особенности в условиях напряженной борьбы между теми, кто практиковал либерализм в «капище антилиберализма», такими «красными бюрократами», как Николай Милютин, и теми, кто был самим этим капищем — чиновниками и царедворцами вроде графа Панина.
Салтыков уже твердо знал, что его истинное дело, его призвание — литература. Но и порвать с опостылевшей петербургской службой он никак не мог: надо же чем-то жить, литературой-то не проживешь, ведь он не маститый Тургенев и не свободный и независимый Лев Толстой.
Над Россией медленно плыл морозный декабрь 1857 года. В бледном свете короткого дня, под немой звездной чернотой или резкой лунной синевой ночи стыли снежные дали бесконечных полей, чащи и буреломы неисходных лесов; дышали там и сям пахучими древесными дымами затерянные в русских просторах деревушки и барские усадьбы, тянулись к небу кресты и колокольни бесчисленных церквей. Земля ждала весны... ждала воли... Не спал мужик, тревожно, но привычно думал о своей полосе, о своем коняге, о буренке; хватит ли до нового урожая хлеба, достаточно ли овса и сена. Думал о первенце Петрухе, не падет ли на него жребий идти в рекруты, думал о Марье, ведь опять ей, больной и истощенной, придется жать барское поле, когда и на своем-то еще рожь стоит. Волновало и новое — слухом земля полнится — вдруг выйдет желанная воля! И не надо будет надрываться на барщине, и земля станет вольная, своя, не барская?.. В каком-нибудь пошехонском захолустье не спалось и барину — и его одолевали беспокойные мысли о столь возможной «катастрофе» — крестьянском освобождении. Куда тогда деваться, как жить, когда в так в утлом хозяйстве едва концы с концами сводятся?..
Читать дальше