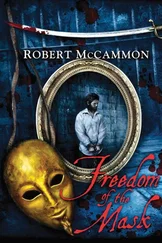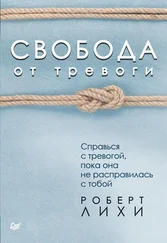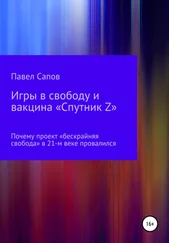Так как доктора Карлштадта могли опознать у городских ворог даже переодетого, то Макс помог его покровительнице темной ночью переправить маленького доктора через городскую стену, примыкавшую к ее дому, в бельевой корзине. «Как миннезингера, отправляющегося на тайное свидание к даме своего сердца», — сказала эта добрейшая душа и рассмеялась. Беглецу посчастливилось добраться до Базеля, где он и провел остаток своей бурной жизни, мирно занимаясь обучением молодежи. Отцу Христиану, женитьба которого на сестре слепого монаха была отпразднована в доме фрейлейн фон Бадель, Валентину Икельзамеру и командору Тевтонского ордена тоже удалось бежать в последнюю минуту, хотя город кишел шпионами и доносчиками, которые, как черви на падали, заводятся всегда в таком множестве на теле реакции.
Габриэль Лангенбергер, чахоточный хозяин «Медведя», теперь, не щадя сил и не помня зла, старался выслужиться перед досточтимым господином Эразмом и осаждал его доносами, и тот благодарил его уже безо всякого отвращения. Патриот подслушал в своем трактире, как беглецы сговаривались с крестьянами и со своими оставшимися в Ротенбурге друзьями о нападении на город. Сноситься между собой им будто бы помогали францисканские монахи. Магистрат, не теряя времени, распорядился переселить францисканцев из монастыря у городских ворот в подворье Тевтонского ордена, в самом центре города. Для устрашения крестьян магистрат приказал начальнику городской стражи фон Адельсгейму сжечь и разрушить до основания Шварценброн — родину Большого Лингарта, Лейценброн — приход Леонгарда Деннера, Шпильбах и еще несколько деревень. Иероним Гассель и кое-кто из молодых дворян вызвались сопровождать Адельсгейма и его стражников и выехали как на увеселительную прогулку.
Тогда и Стефан фон Менцинген решил, что ему больше нельзя оставаться в городе. Он прекрасно знал, что за ним по пятам следуют магистратские шпионы. Теперь, когда его честолюбивые замыслы потерпели крах, враги не замедлят рассчитаться с ним. Он задумал бежать к маркграфу Казимиру, который, конечно, возьмет его под свою защиту. В этом он был так же твердо убежден, как и в том, что маркграф заставит ротенбуржцев поплатиться за их двойную игру.
В Ротенбурге был храмовой праздник. Но обычного в такие дни веселого оживления в городе не было. Не видно было ни гирлянд, ни зеленых веток, украшавших обычно дома в такие дни. Пустовали длинные столы и скамьи, расставленные в просторных сенях у горожан, имеющих право торговать своим вином. Поселяне, обычно веселыми ватагами стекавшиеся в город по праздничным дням, теперь, запуганные и озлобленные, вовсе не показывались. Странствующих лекарей, фокусников, фигляров, скоморохов и всякий бродячий люд магистрат запретил впускать в город.
Приказав держать лошадей оседланными, фон Менцинген отправился в собор св. Иакова послушать на прощанье проповедь доктора Дейчлина. Чтобы скрыть свой дорожный костюм, он набросил на плечи богатый камлотовый плащ.
Выйдя из церкви вместе с Килианом Эчлихом, он остановился у ратуши, перед лавкой золотых дел мастера.
— Пусть друзья будут наготове, — сказал он напоследок, — с юга и с запада опять надвигаются тучи.
Вдруг фон Менцингена окружили солдаты наемной городской стражи и, не дав ему обнажить меча, схватили и потащили в тюремную башню.
— На помощь, граждане! На помощь, братья! — кричал он толпе, собравшейся на Рыночной площади. Но ни один человек не тронулся с места. А кто-то даже крикнул: «Эх, милый, братству пришел конец!»
Только доктор Дейчлин не забыл о нем и с кафедры призывал народ сжалиться над заточенным братом и освободить его из тюрьмы. Тогда магистрат приказал схватить проповедника, а заодно и слепого монаха.
Флориан Гейер покинул Ротенбург еще на исходе второго дня троицы, перед закрытием ворот. Фон Менцинген дал ему самого выносливого из своих коней. Чтобы не напороться на войска Трухзеса, которые, как он полагал, уже взяли Вюрцбург, он переправился у Клейн-Оксенфурта на правый берег Майна. Взошел месяц; медленно поплыл он по темному небосводу, как челн по спокойной поверхности горного озера. Его кроткое сияние мало-помалу успокоило одинокого всадника, нервы которого уже свыше двух суток были в состоянии крайнего напряжения. На смену мыслям, всецело отданным войне и политике, пришли более радужные образы. Перед отъездом он еще раз повидался с Эльзой и ее матерью, и сейчас вновь переживал обаяние глубокой чистоты и благородства натуры юной и прекрасной девушки, которая, при всей своей серьезности, была так подкупающе женственна. Он привязался к ней, как к младшей сестре. «Да, пусть сейчас все бурлит и бродит, как в кипящем котле, — думал он, — Германия может быть спокойна за свое будущее, пока не перевелись еще такие женщины, как Эльза». Он перенесся в воображении к своей жене и при мысли о близком свидании, — увы, очень коротком, — с ней и ребенком, вонзил шпоры в бока лошади, которая перешла было на мелкую рысь. Проселочными дорогами он домчался до Ленгфельда и через несколько часов после восхода солнца увидел перед собой родовое гнездо Грумбахов — старый замок, точно помолодевший в ярких лучах.
Читать дальше

![Идрисс Аберкан - Свободу мозгу! [Что сковывает наш мозг и как вырвать его из тисков, в которых он оказался]](/books/30287/idriss-aberkan-svobodu-mozgu-chto-skovyvaet-nash-m-thumb.webp)