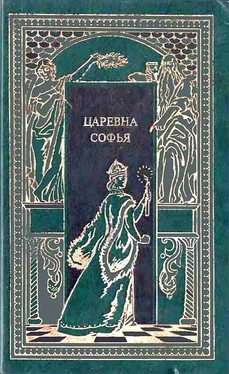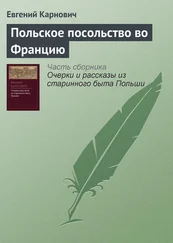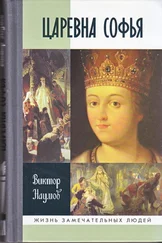— Как зовут тебя, добрый человек? — спросил царь, приблизясь к нему и потрепав по плечу.
Лаптев вместо ответа повалился в ноги царю.
Петр поднял его и сказал:
— Встань и поговори со мной. Скажи-ка мне: кто из Гостиного двора и купеческих рядов привел к Троицкому монастырю до четырехсот человек для моей защиты?
— Я только скликал народ и объявил твой указ, государь.
— Приготовь-ка, любезный Франц, грамоту о награждении купца Гостиной сотни Лаптева.
Лаптев снова упал к ногам царя и заплакал, не имея сил выговорить ни одного слова.
— Ну, полно же, — сказал Петр, — встань! Я знаю, что ты благодарен, и вперед тебя не забуду. А ты, Лыков, что поделываешь? Бутырский полк не поддержал, как прежде, стрельцов?
— Бог не допустил этого позора, государь! — ответил Лыков, вытянувшись.
— Что же ты ныне не подрался со стрельцами? Ты ведь однажды с одной ротой чуть не отбил у них пушки в Земляном городе.
— Отбил бы, государь, да народу у меня, было мало. Поневоле пришлось отступить!
— Знаю, знаю, что и храбрые офицеры иногда отступают. А что тебе больше нравится: идти назад или вперед?
— Вперед, государь, когда можно поколотить неприятеля, и назад, когда должно поберечь и себя, и солдат для другого раза. Так мне покойный майор Рейт приказывал.
— Будь же сам майором. Я посмотрю, что ты приказывать другим станешь.
— Стану всем приказывать, чтобы шли за мной в огонь и в воду за твое царское величество.
— Ну а ты, ученый муж, что скажешь? — сказал Петр, обращаясь к Андрею. — Ты тоже с Лаптевым приехал к Монастырю?
— Точно так, государь.
— Я слышал, что ты большой мастер сочинять и говорить речи. Кто тебе из древних ораторов больше всех нравится?
— Цицерон, государь.
— Мне сказывали, что ты говорил речь на Красной площади против расстриженного попа Никиты Пустосвята.
— Я успел сказать только введение, договорить же не смог, потому что народ стащил меня с кафедры и едва не лишил жизни.
— Договори же речь твою на кафедре в Заиконоспасском монастыре. Я назначаю тебя учителем в академию. Только Смотри, чтобы ученики не стащили тебя с кафедры. Ну, прощай, ротмистр! — продолжал царь, обращаясь к Бурмистрову. — Я нарочно приехал в Москву, чтобы побывать на твоей свадьбе. Приезжай скорее в Преображенское. До свидания! Вручи завтра эту грамоту священнику села Погорелова, который привел всех своих прихожан к Троицкому монастырю. Я его назначаю в дворцовые священники. Это ожерелье, которое жена моя носила, надень на твою жену; а ты, молодая, возьми эту саблю и надень не на ротмистра, а на подполковника.
Вручив Василию драгоценное жемчужное ожерелье, царь снял с себя саблю, подал Наталье и вышел с Лефортом из горницы.
— Посмотри, милый, — сказала Наталья, надевая саблю на мужа дрожащими от волнения руками, — на рукояти вырезаны какие-то слова.
Василий, вынув из ножен саблю до половины, взглянул на рукоять и прочитал надпись: «За преданность церкви, престолу и отечеству».
Петр Полежаев
Престол и монастырь
Поздним вечером последних чисел августа 1681 года, в одном из теремных покоев московских царевен велся оживленный разговор двух лиц — молодой женщины, лет двадцати пяти, как видно, из царского семейства, и уже пожилого московского боярина. Молодая женщина — царевна Софья Алексеевна, боярин — Иван Михайлович Милославский.
Наружность Софьи Алексеевны не могла назваться красивой, Стан, при начинающейся полноте, не стесняемый костюмом того времени, не выказывал той женственности и грации, которые так присущи ее возрасту. Лицо бело, но широко и с чертами, не выдающимися ни тонкостью линий, ни их правильностью. Только одни глаза выделялись, и то не приятностью очертаний, а глубоким, умным выражением, обильным внутреннею силой, умевшей выражать то приветливую, душевную ласку, то холодную власть. За исключением же этой характеристической черты, царевну можно было бы принять за натуру обыкновенную, дюжинную, с сильным золотушным оттенком.
В наружности Ивана Михайловича Милославского, при внимательном наблюдении, сказывалась натура эгоистическая, вдосталь насыщенная только собственными своими интересами, глубоко изощренная в проведении разнообразных интриг и придворных козней, — как и всех почти зауряд бояр доброго допетровского времени. Одна только черта резко бросалась в глаза в наружности боярина и царского свойственника — это сильное развитие нижней части лица, указывавшее на преобладание чувственности.
Читать дальше