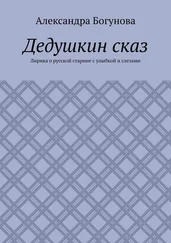На большой аудиенции 20 марта не произошло ничего неожиданного ни для чешского посольства, ни для папы. Напрасно Куза и Бессарион старались убедить пана Костку, что компактаты были заключены только для одного, первого поколения чашников, и собор попросту пошел навстречу чехам, так детям дают игрушки, чтоб не плакали. Последующие поколения уже не вправе претендовать на преимущества отцов, и компактаты могут быть и, видимо, будут расторгнуты властью папы. Чехам придется подчиниться, если они не хотят, чтобы пострадали и король и королевство. Притом Иржи дал венгерским епископам слово, что будет пресекать и искоренять ересь, блюдя волю апостольского престола. Он должен это слово сдержать, либо расстаться с троном.
Пан Костка все эти доводы отклонил, доказывая противоположное. Компактаты, компактаты — вот было для него слово спасения, и в этом кардиналы с послом короля Иржи решительно расходились.
Теперь посольство стояло перед всем двором Пия II, под мраморным сводом консистории, где, посвистывая, вились ласточки, тот год рано вернувшиеся из африканской пустыни. И пан Рабштейн, с согласия всего посольства, обещал папе покорность чешского короля и народа.
В голосе пана Рабштейна чувствовалось волнение. Он знал, что от себя и от своей страны он обещает честно и искренне, но что обещание остальных связано с тяжким условием, о котором через несколько мгновений будет говорить магистр Коранда.
И вот зазвучал мощный и назидательный, страстный и убежденный голос Коранды. В нем была чешская земля, которая за горами, чешская земля, всем миром ненавидимая, всему миру внушающая страх, упрямая, замкнутая в себе, на протяжении жизни двух поколений не затронутая иноземными мыслями и чувствами, гордая своей воинской славой, твердая, непоколебимо уверенная в своей правде и непримиримая в те минуты, когда на эту правду посягают. Коранда говорил долго и убедительно, но за словами смиренными и христиански добродетельными слышался грохот Жижковых боевых телег и та неукрощенная и неукротимая чешская непокорность, которая подорвала величие единой церкви и единого императора и смело зажила по-своему, не ища ничьего одобрения. И непокорность эта еще требовала от папы, чтоб он признал ее правом и правдой и возвел в закон! Широко раскрытыми глазами смотрели прелаты на чешского оратора, жадно впивая его шершавую латинскую речь. Брови хмурились, гнев клал темные тени на итальянские, французские, испанские и каталонские, греческие и швабские морщинистые лбы.
Но Коранда восхвалил своего короля, мудрого и осмотрительного, ласковым отеческим словом своим утишившего бури в своей земле и ведущего ее по путям счастья и мира. Однако король этот требует, чтобы были признаны компактаты, дарованные чехам собором и подтвержденные славным папой Евгением. Король Иржи, властелин героического и могучего чешского народа, слава которого еще не позабыта, разумеется, готов и способен помочь всему христианскому миру одолеть угрожающего христианству врага, неверного турка…
Во время этой речи Палечек смотрел на лицо папы. В ту пору папа был уже тучный и малоподвижный. Его широкий римский нос с горбинкой украшал физиономию, на которой читались долголетняя работа духа, чувственность и любовь к занятиям приятным и нетягостным. Губы, уже побледневшие, были тверды и властны. Муж, сидевший на троне святого Петра, считал себя призванным обновить славу единственного, никем не ограничиваемого апостольства и вести христианство в бой. Подобно каждому образованному итальянцу того времени, папа чувствовал себя полководцем и цезарем, а потому таил в глубине сердца симпатию к воинственному чешскому народу. Но чешские воины во главе с героем и мудрым правителем Иржиком должны быть послушны папе; без этого они не имели в его глазах никакой цены… Либо покорятся, либо будут уничтожены, истреблены, сказал себе цезарь и надменно поджал свои тонкие губы, когда магистр Коранда заговорил о славных победах гуситов и о соборах.
При этом папа вспомнил аудиенцию послов в Базеле. Он был тогда молод и полон стремления к славе и власти. В то время уже видел себя папой. Сидя в левом углу Базельского кафедрального собора, близ алтаря, за секретарским столом, он смотрел, как мимо него проходит чешское посольство. Этот ловкий подстрекатель Рокицана, потом Прокоп… Высокий, стриженый, как монах, с запавшими, усталыми глазами. Человек, много видевший и еще больше переживший, хитрый и молчаливый, стоял как гора и ждал. Ждал вот этих самых компактатов, которых теперь король Иржи снова домогается от папы. Но тогда присутствовавших в храме мороз подирал по коже. На гуситских палицах еще кровь не засохла, и кардинала Юлиана Чезарини еще бросало в жар при воспоминании о домажлицком лесе… А теперь? Папа протянулся поудобней в кресле и погладил под парадной сутаной терзаемую подагрой коленку.
Читать дальше
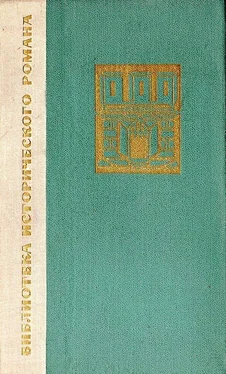






![Фрауке Шойнеманн - Генри Смарт и секрет золотого кубка [litres]](/books/430113/frauke-shojnemann-genri-smart-i-sekret-zolotogo-kub-thumb.webp)