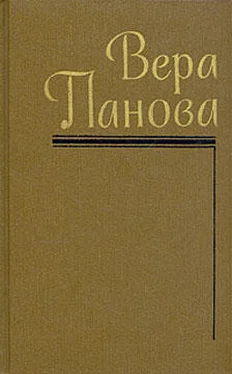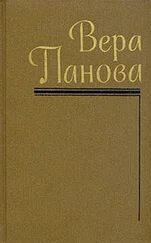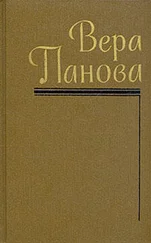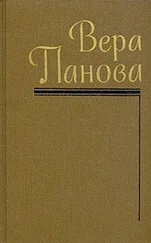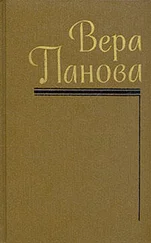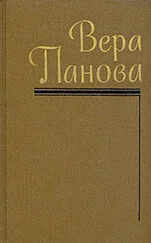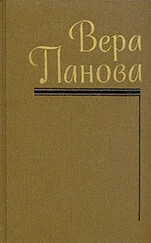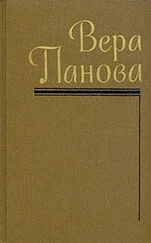— Все же, — отвечал Юрий, — она будет московской царицей, а я буду при них как ее дражайший родитель, а ты будешь при мне как дражайший мой брат.
— Да, если Московия признает его царем.
— А о том надо постараться, брате.
Они старались. Они положили хорошую плату. Они завели списки, с каждым днем эти списки удлинялись. Не говоря уж о холопах и всякой сволочи — даже многие благородные шляхтичи охотно продавали свою шпагу, чтобы помочь рыжему слуге князя Адама воссесть на престол.
Ни убранство покоев, ни провождение времени, ни обхождение — ничто в Самборе не походило на то, что мог вспомнить рыжий об Угличе и Москве. Никто из русских бояр не повесил бы в своем доме таких ковров с изображением любовных утех каких-то богов и героев. Никто не надел бы столь смехотворных подвязок с бантами, будто вынутыми из девичьих кос. Никто не позволил бы дочери своей, девице, часами просиживать с молодым мужчиной в залах и в саду, как позволял сандомирский воевода Мнишек панне Марине. И хотя замок в Самборе был деревянный, но жили в нем богаче и привольней, чем все русские, известные рыжему. Потоком увеселений была эта жизнь, состоявшая из пиров, танцев, выездов на охоту, состязаний в конных скачках и в фехтовании, а пиры не тем привлекательны были, что всяк набивал себе брюхо яствами и питиями, приятны были пиры затейливыми здравицами, чтением наперебой латинских, греческих и французских виршей и тем, что вперемежку с мужчинами сидели панны и пани с обнаженными плечами и мудреными прическами, убранными цветами и драгоценностями. И можно было смотреть на эти плечи и касаться этих рук, не боясь чьего-либо осуждения. Так уж тут полагалось, и сердце рыжего рванулось к этой легкости и беспечности, пренебрегавшей и людским укором, и судом божьим. Даже здороваться здесь умели как-то так, что каждый из здоровавшихся чувствовал себя почтенным и поднятым через приветствие другого. Се, понял рыжий, была Европа, а то, что противополагалось ей, была Азия, татарщина, тяжкий след монголов, оставленный столетиями рабства в русской душе.
И он преклонил колено перед Европой в пышном белом платье и просил ее разделить с ним его царственную судьбу, и Европа протянула нежную ручку в знак того, что она согласна ухватиться с ним вместе за его скипетр. Конечно, сказала Европа, если будет на то благословение ее отечества, то есть пана таты и короля.
— А вдруг, брате Юрий, — возразил пан дядя, — пан жених, воссевши на родительский престол, вознамерится жениться на другой девице, — мало ли их в божьем мире. Треба взять у него обязательство, брате Юрий.
— Я возьму обязательство, — посулил пан тата.
И он получил от рыжего запись, что тот по восшествии на российский престол обязуется жениться на панне Марине Мнишек, и они с Николаем свезли рыжего к королю Сигизмунду, и тот позволил пану Юрию Мнишку собрать войско в помощь рыжему. Не обошлось без неудовольствий — кое-кому из панов не нравилось, что Мнишки уж чересчур высунутся наперед, а кое-кто, как, например, Сапега, боялся, что из-за этих дел порушится дружба с Московией, но усердие Мнишков все одолело, и войско стало собираться в поход под прапором рыжего.
Что за ликованье в Кракове? В честь чего заливаются соборные колокола? В честь чего вывешены из окон ковры и расшитые хустки с бахромой? Чего ради горожанки спозаранок разоделись в бархатные корсажи, а ножки их обуты в белые чулки и башмаки с серебряными пряжками? Зачем эта бальная роскошь с самого утра, ведь сходки с танцами под скрипку будут только вечером?
А затем, что нынче с рассветом в город хлынуло видимо-невидимо приезжих москвитян. В дорожных каретах, в санях, крытых коврами, и на простых телегах, где лишь немного сена положено для мягкости, въезжают они в Краков по всем дорогам, въезжают и въезжают.
Так что к полудню ни на одном постоялом дворе нет уже ни свободной комнаты, ни свободного угла, ни постельного белья даже. Они как делают, русские? Из кареты выходит господин в медвежьей либо овчинной шубе, в собольей шапке, спрашивает комнату. Записывается в книге для приезжающих частенько сановным, иной и княжеским именем, ложится в отведенном покое на мягкое ложе под балдахином, а когда хозяева гостиницы полагают, что постоялец ублаготворен сполна, — тут он объявляет, что он не один, а сам-шест, ибо с ним пятеро слуг, коих тоже надобно сполна ублаготворить.
И точно, лезет из кареты еще один, за ним другой, третий, все пятеро. И хоть слуги, а тоже в шубах добрых, и сапоги теплые, из шерсти валяные. И у многих сабельки и кинжалы в серебряных ножнах.
Читать дальше