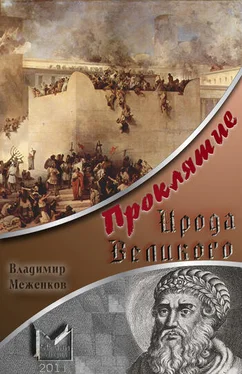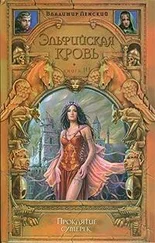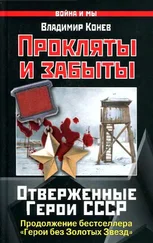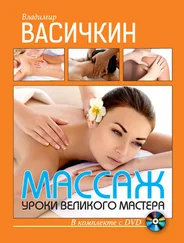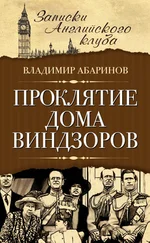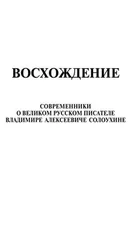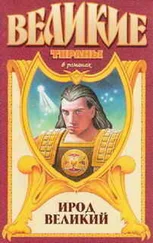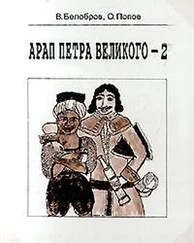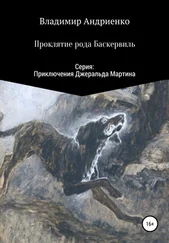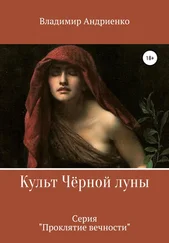1 Цар. 2:10.
Мессия – евр. Машиах , т. е. «Помазанник», греч. Христос .
Искаженное Иер. 50:32.
Демокрит (V–IV вв. до н. э.) – древнегреческий философ-атомист и ученый-энциклопедист, автор свыше 70-и работ, обнимающих все области знания того времени (большинство сочинений Демокрита утрачено и дошло до нас в виде цитат, использованных другими авторами). Считал, что человек – отражение космоса («человек – это малый мир») и, подобно космосу, состоит из атомов. Отрицал бессмертие души: когда тело умирает, атомы души покидают его, рассеиваясь в пространстве. Целью жизни Демокрит объявлял хорошее расположение духа, когда человек не подвержен действию страстей и страха, а наивысшей добродетелью – безмятежную мудрость. Боги, по Демокриту, это особые соединения атомов, которые нелегко разрушаются, но все же не вечны; они могут благотворно воздействовать на человека, а могут зловредно, могут подавать ему те или иные знаки, а могут не подавать. Наилучшей формой государственного устройства считал демократический полис.
Аристотель (IV в. до н. э.) – древнегреческий философ и, подобно Демокриту, ученый-энциклопедист, учитель Александра Македонского. Сохранились некоторые лекции Аристотеля и многие его труды, касающиеся почти всех проблем развития природы и общества. Считал, что форма приоритетна по отношению к материи и абсолютизирована в божественном «неподвижном перводвигателе» как кульминационном пункте Вселенной. Форма эта расчленяется на пары: тело – душа, муж – жена, господин – раб и т. д. Человек, по Аристотелю, живое существо, наделенное духом и разумом («разумной душой»). Цель жизни – счастье, достигаемое в деятельности души по осуществлению своей арете (греч. – «добродетель»), которая делится на этические (практические) и дианоэтические (интеллектуальные) составляющие. Этическое арете – «середина между двумя пороками»: мужество – между отчаянностью и трусостью, самообладание – между распущенностью и бесчувственной тупостью, кротость – между гневливостью и невозмутимостью. Сущность дианоэтической добродетели – в правильной деятельности теоретического разума, цель которой состоит в отыскании истины ради самой истины и установления норм поведения. В качестве образцового государственного устройства выдвинул идею политии – смешение олигархии и демократии, в которой поляризация бедных и богатых снимается преобладанием зажиточных средних слоев.
Притча, приведенная ессеем Менахемом, процитирована по книге «Агада. Сказания, притчи, изречения талмуда и мидрашей».
Последователь Аристотеля, Николай Дамасский считал, что занятие любыми ремеслами, равно как земледелием и торговлей, удел рабов, тогда как назначение свободного гражданина состоит в созерцательной деятельности, которая есть не что иное, как внечувственное познание идей. Созерцание, по мнению древних философов, происходит на уровне интуиции (от лат. intueor – «пристально смотрю»), а затем, обнаружив прямо и непосредственно в познанных идеях истину, люди свободных профессий обосновывают ее интеллектуально с помощью логических доказательств. Вопросы созерцания и интуиции до сих пор остаются центральными в теории познания.
Один из сложных вопросов в иудаизме, приведший к расколу внутри него во II–I вв. до н. э. и не нашедший разрешения в раннем христианстве. Впрочем, вопрос о воздаянии людям по их поступкам и делам оставался неразрешенным и в позднем христианстве, расколовшемся на католицизм, православие и протестантизм (не считая многочисленных сект, возникших внутри каждого из этих направлений), и до сих пор остается неразрешенным. Так, в послании Иакова читаем: «…делами вера достигла совершенства» и «…человек оправдывается делами, а не верою только» (см. Иак. 2:22 и 2:24). Между тем в послании Павла к галатам находим нечто прямо противоположное: «…человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа…» (см. Гал. 2:16).
Вот как описывал эти разрушенные в ходе Иудейской войны башни и царский дворец Иосиф Флавий: «Высота этих башен, как ни была она значительна сама по себе, казалась еще большей благодаря их местоположению; ибо древняя стена, на которой они стояли, сама же была построена на высоком холме и, подобно вершине горы, подымалась на вышину тридцати локтей, а потому башни, находившиеся на ней, выигрывали в вышине. Поразительна была также величина камней, употребленных для башен, ибо последние были построены не из простых камней или обломков скал, которые люди могли бы нести, а из обтесанных белых мраморных глыб, из которых каждая измерялась двадцатью локтями длины, десятью локтями ширины и пятью – толщины; и так тщательно они были соединены между собой, что каждая башня казалась выросшей из земли одной скалистой массой, из которой уже впоследствии рука мастера вырезала формы и углы – так незаметны были швы сооружения. К этим стоявшим на севере башням примыкал изнутри превосходивший всякое описание царский дворец, в котором великолепие и убранство были доведены до высшего совершенства. Он был окружен обводной стеной в тридцать локтей высоты, носившей на одинаковых расстояниях богато украшенные башни, и помещал в себе громадные столовые с ложами для сотен гостей; неисчислима была разновидность употребленных в этом здании камней, ибо самые редкие породы были доставлены сюда массами из всех стран; достойны удивления потолки комнат по длине балок и великолепию убранства. В нем находилось несметное число разнообразной формы покоев, и все они были вполне обставлены; бóльшая часть комнатной утвари была из серебра и золота. Много было перекрещивавшихся между собой кругообразных галерей, украшенных разнообразными колоннами, открытые их места утопали в зелени. Здесь виднелись разнородные парки с прорезывавшими их длинными аллеями для гулянья, а вблизи их глубокие водовместилища и местами цистерны, изобиловавшие художественными изделиями из меди, через которые протекала воды. Кругом этих искусственных источников находились многочисленные башенки для прирученных диких голубей. Однако нет возможности описать по достоинству этот дворец; мучительно только воспоминание об опустошении, произведенном здесь разбойничьей рукой; ибо не римляне сожгли все это, а внутренние враги сделали это в начале восстания: в замке Антония впервые вспыхнул огонь, затем он охватил дворец и уничтожил также верхние постройки башен».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу