Добрые мои спутники по равнодушию моему ко всему земному и по безмолвию моему заключили, что я болен. Я в самом деле был болен. Скорбь снедала меня. Один из них предложил мне жительство в своем доме, на что я согласился. Тщетно мой хозяин старался рассеять меня удовольствиями сей веселой столицы. Я бегал от людей и от забав: веселость других увеличивала скорбь мою. Каждый из этих людей, думал я, имеет отечество, семейство, любит или может любить – а я сирота бесприютный, в чужой земле, без надежды на счастье, я не должен смешиваться с людьми счастливыми, не должен отравлять их наслаждений моим присутствием. Я бродил днем по окрестностям города, по лесам и в городе посещал только церковь православную. Там, пред общим отцом, переносясь мыслию в общее отечество рода человеческого, я умолял его прекратить мое жалкое существование в сей юдоли плача. Проливая слезы пред алтарем Всевышнего, я в одной только молитве находил утешение.
Таким образом прошел год, и я никого не знал, ничего не видел в Варшаве. Однажды утром я пошел в нашу церковь. Посреди оной стоял гроб: священники совершали панихиду, народ усердно молился. Я остановился в углу и, смотря на черный покров, закрывающий гроб, завидовал участи покойника. Вокруг меня шептали и разговаривали. "Кто умер?" – спросил вошедший человек у стоящего возле меня гражданина. – "Зоя Прошинская", – отвечал мой сосед. Я упал без чувств на помост церкви и очнулся в больнице. Мне сказали, что я более месяца был в беспамятстве. О, зачем я не умер, зачем не лишился ума навеки!
Леонид снова прервал рассказ и, закрыв лицо руками, молчал некоторое время. Иваницкий отер слезы, которые невольно навернулись на глазах его.
– Молодость и крепость моего сложения превозмогли душевный недуг: я выздоровел, и меня выпустили из больницы, – продолжал Леонид. – Зоя умерла в Варшаве. Я хотел видеть дом, в котором она томилась, где она помышляла обо мне; хотел видеть ее могилу и прилечь сердцем к земле, схоронившей мое счастье! Мне указали дом Прошинского и окна тех комнат, где жила Зоя. Они были растворены, и я увидел цветы. Рассудок мой не помрачился, но сердце воспылало. Я взбежал по лестнице в комнаты, не будучи остановляем служителями, и дошел до спальни, где висел на стене портрет Зои. Все воспоминания мои ожили, все раны сердца растворились. Я плакал и стенал, глядя на ангельские черты той, которая любила меня до гроба. Вдруг входит Прошинский, которого до тех пор не было дома. Он тотчас узнал меня и даже распростер объятия, чтоб приветствовать, но я оттолкнул его и в бешенстве стал упрекать в убийстве, хотел увлечь на могилу Зои и там принести его в жертву моему мщению. Прошинский был вооружен. Пользуясь сим преимуществом, он обнажил саблю, чтоб заставить меня выйти, угрожал, звал на помощь людей, но я держал его за горло и тащил за двери. Началась борьба, и я сам не помню, каким образом я обезоружил несчастного и рассек ему голову. Он упал без чувств, окровавленный, к ногам моим!
Прибежали служители, схватили меня как убийцу, связали и при стечении многочисленного народа отвели в темницу.
Я бы непременно погиб на плахе, но прежняя моя болезнь подала повод сострадательным моим единоверцам вступиться за меня и приписать исступление мое новому припадку сумасшествия. Мне даровали жизнь, но осудили на вечное изгнание из пределов Польской республики под карою смерти в случае нарушения приговора. Туровские монахи, бывшие в Варшаве по делам своей обители, взяли меня с собою в Литву. Кроме веры, мне не оставалось другого убежища и утешения на земле. Я вступил в монашество, наречен Леонидом и отправлен в Россию, в Крипецкий монастырь Псковской епархии, с пред-стательсТвом от всех братии и самого епископа Слуцкого. Прожив некоторое время в сем монастыре, я ходил в Новгород проведать о родне моей; но не нашел никакого следа. Все до единого погибли, а имущество описано в казну. Наконец, по требованию патриарха о высылке в Москву ученых монахов, меня, как знающего латинский, греческий и польский языки, отправили в Москву, где я был помещен в Чудове монастыре с поручением заняться переводами книг святых отцов с греческого языка. В таком положении ты, Иваницкий, застал меня, когда, прибыв в Москву с посольством Льва Сапеги, привез мне письма от добрых монахов туровских, заклинавших меня подружиться с тобою и помогать тебе во всех делах. Признаюсь, что спокойствие уже начинало водворяться в моем сердце и жизнь труженическая изгладила память о суете мирской, когда ты предстал предо мною, как грозная судьба, и объявив великую тайну, увлек снова на земное поприще. Не честолюбие заставило меня действовать и подвергать жизнь опасностям, но любовь к отечеству и убеждение, что Россия никогда не может быть счастливою, если каждому честолюбцу будет открыт путь к престолу; убеждение, что одно законное, наследственное царское поколение может возвеличить Россию, направляя честолюбие и страсти не к пагубным раздорам и козням, но к верному служению престолу, церкви и отечеству. Веря словам твоим и доказательствам, что Димитрий Иванович жив, что он любит нашу родимую Россию и не похож сердцем на родителя своего, Иоанна, – я жертвую собою для общего блага. Вот тебе рука моя!
Читать дальше

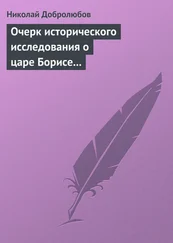







![Фаддей Булгарин - Иван Иванович Выжигин [litres]](/books/413729/faddej-bulgarin-ivan-ivanovich-vyzhigin-litres-thumb.webp)
![Фаддей Булгарин - Димитрий Самозванец [litres]](/books/413730/faddej-bulgarin-dimitrij-samozvanec-litres-thumb.webp)

