— Воинов, простых воинов, не священников твёрдолобых... Уговорим, обласкаем. Что до самих монголов — война на износ уже всем надоела... Добычу домой не привезёшь... И люди в коренных улусах почти голодают. Десятками, сотнями под наши знамёна переходить будут, если пообещаем людям мир и возможность вольно кочевать, как в прежние времена.
— Но почему именно сейчас, не позднее, — сказанное отцом начинало казаться Бату разумным.
— Пока силы есть и люди живые. Позднее, с меркитами и кыпчаками воюя, утомим коней и людей погубим.
— Погубим людей и коней умучаем, — опять расставил Бату эти понятия по степени важности, ему очень хотелось с эцегэ согласиться, но что-то мешало... как камешек в гутуле. Дадут ли время вытряхнуть камешек, а надо бы.
— Ну что, убедил я тебя? — Джучи стало стыдно за эту излишне пламенную речь, произнесённую перед стригунком. Не по чину старания.
— Не знаю, — наморщился тайджи. — Думать буду.
— С Маркузом своим любимым, да? — спросила всплывшая ревность.
— У меня и своя голова не оторвана.
Бату, пошатываясь от напряжения, прошёл-прополз мимо дремавших, опершись на копья, тургаудов. Их квёлые лица сами по себе ни о чём не говорили — настоящий, опытный нухур при опасности мгновенно сбросит полудрёму.
«Не тот сторож, кто столбом стоит, а тот сторож, кто силы бережёт», — так говаривал Мутуган. И всё же, если бы тургауды стояли чётко и слаженно, как они сами выстаивали когда-то с Мутуганом в «учёной яме» свою смену (попробуй не постой), это было бы маленьким, но так необходимым сейчас для царевича доказательством правоты его отца. «Всё, хватит на сегодня забот», — решил он и направил коня, казалось бы тоже беспечно дремавшего на ходу, к материнской юрте.
Боэмунду дали отдельную юрту, белевшую новеньким войлоком, несколько лежанок-ширдегов, отполированный китайский казан, не касавшийся огня своим сияющим задом, трёх поджарых сартаульских жеребцов соловой масти, видавший виды, но добротный персидский меч с костяной рукояткой, а также много мелкой всячины. Кроме всего этого, он обзавёлся домашним мальчиком-рабом.
Такова была плата за чёрную весть, привезённую им из душной Индии вместе с не самым весёлым рассказом о себе самом.
Этот странный народ, в диком обществе которого Боэмунд провёл уже не один месяц, не переставал его удивлять. Они убивали легко, как играли, с детской улыбкой, а иногда с таким же детским безоглядным ожесточением. Они вычищали от всего шевелящегося непокорные города и вдруг... оделяли подарками, в приливе... нет, не жалости, сопереживания к чьей-нибудь совершенно чужой судьбе.
Они не прощали предательства, но удивительно не обижались на подтрунивания, граничащие с оскорблением. Они не терпели двуличия и то, что у сарацинов считалось вежливостью, здесь сходило за хамство.
Что он такого хорошего сделал этому погибшему Мутугану — ничего. Да и что он мог? А тот ему вдруг безоглядно доверился и каким-то непонятным образом обязал доверие оправдать. Жизнь давно тяготила Боэмунда, но казалось — он нужен, и этого было достаточно, чтобы держаться на плаву, не переселяться в другое, ещё неизвестно насколько лучшее, тело. Теперь вот на его дороге встретился Бату, которому он достался от Мутугана в наследство. Царевич слушал истории из жизни чужого человека с такой не посторонней заинтересованностью, так хотел вернуть ему утраченную радость жизни, что как тут не поддаться, не попробовать ещё раз... Уже в который раз.
Мир состоял из злых чудес всегда, всегда.
Катары [82] Катары — религиозная секта на юге Франции и в Испании, её представители верили в переселение душ и считали материю злом, от которого нужно освободить дух.
из Безье утверждали, что жизнь и материя — от дьявола. Они проклинали любовь и восхваляли оргии, как орудие истощения тела, как орудие избавления души от плотской тюрьмы... Их речи были страшны, а жизнь весела, разноцветна и содержательна. Они легко относились к смерти, но не трогали даже кур.
Католики считали этот мир творением Божиим, воспевали «всякое дыхание его», которое Господа славит, воспевали любовь без греха, чистую, как утреннее небо. Их речи были вдохновенны, но жизнь — грустна и однотонна, как монашеская ряса. Они покрывали смерть глянцем монументального величия, отшатывались от неё с суеверным ужасом, как от страшной старухи с косой, и много, очень много убивали.
Боэмунд был человеком, который не смог расстаться с детством. Разве можно забыть угрюмых жизнелюбов, секущих мечами весёлых людей? В Безье умирали весело, с шутками и прибаутками отправляясь в другую увлекательную страну. Этот весёлый праздник освобождения от греховных тел живёт в Боэмунде. Яркие краски этого карнавала не меркнут в его душе, как те факелы, которыми он жонглировал перед сумасбродной публикой, как те посеребрённые мечи, от которых он уворачивался — было у них и такое представление. Тогда, в Бухаре, монголы приняли его за необыкновенно обученного воина, а он никогда не воевал, он никогда не умел это делать... Только потом, в угрюмой, жертвенной Акре он протягивал рыцарям натянутые арбалеты, потому что за это его кормили.
Читать дальше



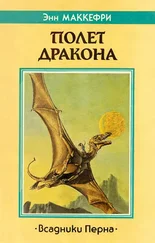





![Энджи Сэйдж - Полет дракона [litres]](/books/388411/endzhi-sejdzh-polet-drakona-litres-thumb.webp)


