В городе Кайфын — последней джурдженьской столице — монгольский таран не только приложился к воротам, но угрюмым гигантским дятлом вовсю по ним долбил. Субэдэй, у которого джурджени уволокли в своё время на рисовые плантации невесту (где девушка, как водится, и пропала), слушал издалека мерное постукивание, ходил румяный и довольный, улыбался как дитя на празднике.
Он шёл к этой мести всю свою одинокую жизнь — одинокую именно из-за того, что каждую ночь неотвратимо видел лицо Бичике, которая протягивала руки и умоляла: «Чаурхан, спаси». Единожды полюбив, он на женщин других даже смотреть не мог. Всё думал: «Она там, а я...»
Одержимый именно таким, он как-то предложил Темуджину истребить всех джурдженей, а их жуткие плантации и города-рассадники превратить в пастбища. «Они вспороли землю, как брюхо рыбе. Разве они люди — только внешне». Наконец он добрался до главного гнезда их драконов, которое нужно выжечь до ямы, чтоб никогда не повторились рисовые поля слёз. И тут вдруг «дальняя стрела» от Угэдэя: «Город не трогать, принять почётную сдачу».
Позже оказалось: Юлюй Чуцай соблазнил Угэдэя доходами с пощажённой столицы.
Когда до осатаневших туменов наконец дошло, они исторгли могущественный стон: войско трепетало и ревело в бессилии, как бык, которого в момент соития бесцеремонно оторвали от коровы. Ведь кроме прошлых несмываемых счетов мести, почти у каждого из нухуров под этими стенами полегло немало близких друзей. Освобождённые с рисовых плантаций монголы — бывшие рабы тех самых, сидевших за стенами, — рыдали и выли, обхватив голову руками. Они мечтали об этой мести, как мечтает о воздухе тот, кого душат. Воздуха им не дали.
Дело было даже не в мести, в чём-то другом — в тёмном, необъяснимом. В том, что трогать нельзя, как незажившую болячку, потому что будет только хуже, всегда.
Так, по крайней мере, считал Субэдэй.
Кажется, Железный Старик тогда впервые потерял свою хвалёную невозмутимость и высказал всё, что думает о таком милосердии за чужой счёт, и даже поболе того: всё, что думает о проникшей в ставку и пригретой Угэдэем киданьской змее. И вот с тех пор началось всерьёз.
С интересом наблюдали сплетники Каракорума за нескончаемой борьбой на ковре перед троном Киданьского Змея и Урянхайского Барса (Субэдэй был из урянхайцев). Темуджин был мудрым правителем и выдвигал только достойных — эти двое действительно стоили один другого. Борьба между ними болезненно затягивалась — такова плата за талант.
Оба честны — что может быть обманчивее? Оба умны — что может быть глупее?
Бату и Юлюй Чуцай. 1235 год
Вошедший был ханом, чингисидом, «Кусочком Солнца». Вызвавший его на аудиенцию — чиновником-выдвиженцем из покорённых. Поэтому всесильный джуншулин Юлюй Чуцай (который мог растереть Бату словно комара на шее) почтительно поклонился вошедшему, как низший бесконечно высшему, а Бату — не имевшей и сотой доли такой власти — с некоторым усилием удержал спину прямой. Они уселись среди шёлковых подушек и трепещущих зонтиков. (Бату опять же, как чингисид — на место более почётное.) На этом все несуразности завершились. Их беседа показала, кто есть кто на самом деле.
— А ты изменился, хан. Раньше, после смерти отца, приезжал юноша — бесформенная масса, торчащие углы. Теперь иное: голоса и движений плавное единение. Война ужасна, но она преображает мужчин.
— О нет. Я постарел на этой войне, — неискренне вздохнул Бату, которому вкрадчивая лесть Чуцая понравилась.
— Я внимательно следил за тобой эти восемь лет, многое знаю.
— Ты знаешь о каждой травинке в лесу, мудрейший, — слегка, чтобы не потерять достоинство, склонил голову молодой хан, — Тулуй много говорил о тебе — только хорошее. Ты спас его... тогда, восемь трав назад.
Чуцай нахмурился. О том, что предшествовало кончине Темуджина, ему вспоминать не хотелось. Он поднял глаза на Бату, и тот свои не отвёл. Во взгляде молодого хана, в его полуусмешке, читалось: «Мы друзья, но если бы стали врагами, и мне было бы чем тебя уколоть. Однако я сразу положил на стол свой потаённый нож, не вонзил его и не сделаю этого впредь».
— Ты видел, как погиб Тулуй?
На Бату разом нахлынули рваные воспоминания. Прозрачная ночь, чёрная гладь безоглядной Кара-Мурен, ласковые волны облизывают чью-то оторванную руку на берегу... ливень... нахальные потоки воды. Как безумная бабочка, бьётся о косяк створка лаковой двери. Голова Великого Хана — на твёрдой тростниковой подушке, а рядом, на коленях — Тулуй. Вокруг всё заплёвано... А он, Бату, перекрикивает дождь, орёт в темноту, туда, где издевательски изогнулись двускатные китайские крыши: «Лекаря, лекаря!..» И кто-то уже, спотыкаясь, спешит, месит грязь.
Читать дальше



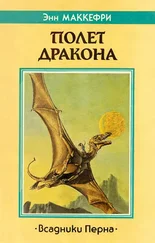





![Энджи Сэйдж - Полет дракона [litres]](/books/388411/endzhi-sejdzh-polet-drakona-litres-thumb.webp)


