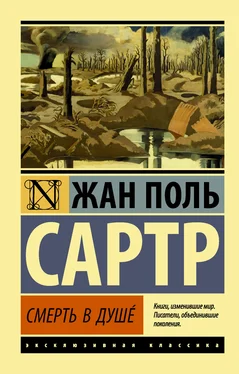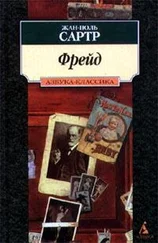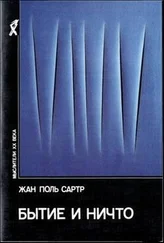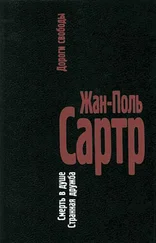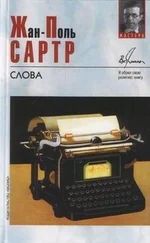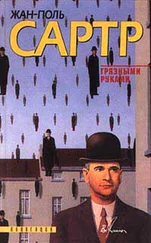– Она меня любит, – говорил Пинетт, – но у нее трудный характер: она много о себе воображает. Да еще ее мамаша королеву из себя корчит. Жена должна тебя уважать, верно? Иначе она устроит из дома ад.
Он вдруг встал:
– Мне надоело здесь. Ты идешь?
– Куда это?
– Не знаю. К остальным.
– Пойдем, если хочешь, – неохотно согласился Матье.
Он, в свою очередь, встал, они поднялись к дороге.
– Смотри-ка, – сказал Пинетт, – вот Гвиччоли.
Гвиччоли, расставив ноги, приставив руку козырьком ко лбу и смеясь, смотрел на них.
– Вот это шутка! – сказал он.
– Что?
– Вот это шутка! Попались, как дураки.
– Ты о чем это?
– О перемирии, – все еще смеясь, сказал Гвиччоли.
Пинетт засветился:
– Это была шутка?
– Маленькая такая! – сказал Гвиччоли. – Люберон притащился к нам надоедать; он хотел новостей, ну мы ему их и дали.
– Значит, – оживился Пинетт, – никакого перемирия нет?
– Перемирия нет и в помине.
Матье краем глаза посмотрел на Пинетта:
– Что это меняет?
– Это меняет все, – сказал Пинетт. – Вот увидишь! Вот увидишь – это меняет все.
Четыре часа
Никого на бульваре Сен-Жермен; никого на улице Дантона. Железные шторы даже не опущены, витрины сверкают: просто хозяева, уходя, сняли щеколду с дверей. Было воскресенье. Уже три дня было воскресенье: на всю неделю в Париже был только один день. Совершенное воскресенье, какое-то немного более напряженное, чем обычно, немного более искусственное, слишком молчаливое, уже полное тайного застоя. Даниель подходил к большому магазину шерстяных изделий и тканей; разноцветные клубки, расположенные пирамидой, начали желтеть, они пахли чем-то старым; в соседней лавке выцветали пеленки и блузки; мучнистая пыль скапливалась на полках. Длинные белые дорожки бороздили стекла. Даниель подумал: «Стекла плачут». За стеклами царил праздник: жужжали мириады мух. Воскресенье. Когда парижане вернутся, они найдут гнилое, упавшее на их мертвый город воскресенье. Если только они вернутся! Даниель дал волю страстному желанию хохотать, желанию, с которым он с утра прогуливался по улицам. Если только они вернутся!
Маленькая площадь Сент-Андре-дез-Ар лениво предавалась солнцу: среди ясного света была темная ночь. Солнце – это искусственность, вспышка магния, которая прячет ночь, оно должно погаснуть через двадцатую долю секунды, но почему-то не гаснет. Даниель прижал лоб к большой витрине Эльзасской пивной, я здесь завтракал с Матье: это было в феврале, во время его отпуска, здесь все кишело героями и ангелами. Он в конце концов различил в полумраке колеблющиеся пятна: это были бумажные скатерти на подвальных столиках-грибах. Где герои? Где ангелы? Два железных стула остались на террасе; Даниель взял один за спинку, отнес на край тротуара и сел, как рантье, под военным небом, в этой белой жаре, которая была пронизана воспоминаниями детства. Он чувствовал, как в спину магнетически давит тишина, он смотрел на пустынный мост, на запертые на висячий замок ящики набережных, на башенные часы без стрелки. «Они должны были бы ударить по всему этому, – подумал он. – Всего несколько бомб, чтобы нагнать на нас страху». Чей-то силуэт проскользнул вдоль префектуры полиции по другую сторону Сены, словно несомый движущимся тротуаром. Строго говоря, Париж не был пуст: он был населен маленькими минутами-поражениями, которые брызгами разлетались во всех направлениях и тотчас же поглощались под этим светом вечности. «Город полый», – подумал Даниель. Он чувствовал под ногами галереи метро, за собой, перед собой, над собой – дырявые скалы: между небом и землей тысячи гостиных в стиле Луи-Филипп, столовые в стиле ампир, угловые диваны скрипели в запустении, можно было помереть со смеху. Он резко обернулся: кто-то стукнул по витрине. Даниель долго смотрел на большую витрину, но увидел только свое отражение. Он встал со сжавшимся от странной тревоги горлом, но не слишком недовольный: забавно испытывать ночные страхи среди бела дня. Он подошел к фонтану Сен-Мишель и посмотрел на позеленевшего дракона. Он подумал: «Все дозволено». Он мог спустить брюки под стеклянным взглядом всех этих черных окон, вырвать камень из мостовой и бросить его в витрину пивной, он мог крикнуть: «Да здравствует Германия!», и ничего не произойдет. Самое большее на седьмом этаже какого-нибудь здания к окну прильнет испуганное лицо, но это останется без последствий, у них не осталось сил возмущаться: приличный человек наверху повернется к жене и равнодушно скажет: «На площади какой-то тип снял штаны», а она из глубины комнаты ему ответит: «Не стой у окна, мало ли что может произойти». Даниель зевнул. Может, разбить витрину? Лучше будет видно, когда начнется грабеж. «Надеюсь, – подумал он, – они все предадут огню и зальют кровью». Даниель еще раз зевнул: он чувствовал в себе беспредельную и тщетную свободу. Мгновениями радость обжигала ему сердце.
Читать дальше