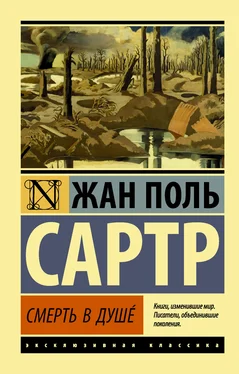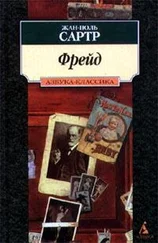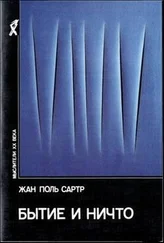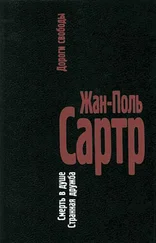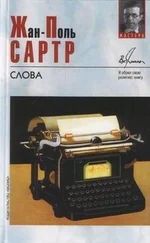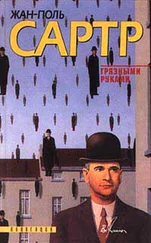– Я жду, когда фрицы будут в поле зрения.
Они замолчали; Лонжен действительно углубился в чтение. Матье бросил на него завистливый взгляд и встал. Шарло положил руку на плечо Пинетта.
– Реванш?
– Если хочешь, давай.
– Во что играете? – спросил Матье.
– В крестики-нолики.
– А втроем можно играть?
– Нет.
Пинетт и Шарло сели верхом на скамейку; сержант Пьерне, который писал что-то на коленях, немного отодвинулся, чтобы освободить им место.
– Ты пишешь мемуары?
– Нет, – сказал Пьерне, – я занимаюсь физикой.
Они начали играть. Ниппер спал, лежа на спине и скрестив руки, с бульканьем слива воздух врывался в открытый рот. Шварц сидел в сторонке и мечтал. Никто не разговаривал, Франция была мертва. Матье зевнул, он посмотрел, как секретные документы дымом исчезают в небе, и его голова опустела: он был мертв; этот белый и тусклый послеполуденный час был могилой.
В сад вошел Люберон. Он жевал, его ресницы трепетали под большими глазами альбиноса, уши двигались одновременно с челюстями.
– Что ты ешь? – спросил Шарло.
– Хлеб.
– Где ты его взял?
Люберон вместо ответа показал куда-то в сторону и продолжал жевать. Шарло внезапно замолчал и с каким-то ужасом посмотрел на него; сержант Пьерне, подняв карандаш и запрокинув голову, тоже смотрел на него. Люберон продолжал не спеша жевать: Матье обратил внимание на его важный вид и понял, что тот принес новости; как и все, Матье испугался и отступил на шаг назад. Люберон мирно закончил есть и вытер руки о штаны. «Это был не хлеб», – подумал Матье. Подошел Шварц, и все молча ждали.
– Ну все, свершилось! – объявил Люберон.
– Что ты мелешь? – грубо спросил Пьерне. – Что свершилось?
– То самое.
– Значит…
– Да.
Стальная молния, потом тишина; вялое сизое мясо этого дня получило знак вечности, это было как удар серпа. Ни звука, ни дуновения ветра, время застыло, война отступила: только что они были в ней, под ее защитой, они могли еще верить в чудеса, в бессмертную Францию, в американскую помощь, в гибкую защиту, во вступление России в войну; теперь война была позади них, закрытая, завершенная, проигранная. Последние надежды Матье превратились в воспоминания о надеждах.
Лонжен опомнился первым. Он вытянул длинные руки, чтобы осторожно как бы пощупать новость. Он робко спросил:
– Значит… оно подписано?
– С сегодняшнего утра.
Девять месяцев Пьерне желал мира. Мира любой ценой. Теперь Пьерне стоял бледный и потный; его удивление перешло в ярость.
– Откуда ты знаешь? – крикнул он.
– Мне только что сказал Гвиччоли.
– А он откуда знает?
– По радио слышал. Только что передавали.
Он говорил голосом диктора, терпеливым и нейтральным; ему нравилось изображать из себя всеведущего.
– А как же артиллерия?
– Прекращение огня назначено на полночь.
Шарло тоже покраснел, но глаза его сверкали:
– Вот это да!
Пьерне встал. Он спросил:
– Есть подробности?
– Нет, – сказал Люберон.
Шарло кашлянул:
– А мы?
– Что мы?
– Когда мы вернемся по домам?
– Говорю же тебе, что подробностей нет.
Они помолчали. Пинетт пнул булыжник, и тот покатился в морковку.
– Перемирие! – сказал он злобно. – Перемирие!
Пьерне покачал головой; на его пепельном лице левое веко стало дергаться, как ставень в ветреный день.
– Условия будут жесткими, – сказал он, удовлетворенно ухмыляясь.
Начали ухмыляться и все остальные.
– Еще бы! – сказал Лонжен. – Еще бы!
Шварц тоже ухмыльнулся; Шарло повернулся и удивленно посмотрел на него. Шварц перестал смеяться и сильно покраснел. Шарло продолжал смотреть на него так, как будто видел его в первый раз.
– Ты теперь фриц… – тихо сказал он.
Шварц энергично и неопределенно махнул рукой, повернулся и вышел из сада; Матье почувствовал себя совсем разбитым от усталости. Он рухнул на скамейку.
– Ну и жара, – сказал он.
На нас смотрят. Все более и более плотная толпа смотрела, как они глотают эту историческую пилюлю, толпа на глазах старела и пятилась назад, шепча: «Побежденные сорокового года, солдаты-пораженцы, из-за них мы оказались в цепях». Они оставались здесь, неизменные под этими изменчивыми взглядами, судимые, точно измеренные, объясненные, обвиненные, прощенные, приговоренные, заточенные в этом неизгладимом полудне, погребенные в жужжании мух и пушек, в запахе нагретой зелени, в воздухе, дрожащем над морковью, бесконечно виновные в глазах своих сыновей, внуков и правнуков, побежденные сорокового года навсегда. Он зевнул, и миллионы людей увидели, как он зевает: «Он зевает, ну и дела! Побежденный сорокового года имеет наглость зевать!» Матье резко погасил этот неудержимый зевок, он подумал: «Мы не одни».
Читать дальше