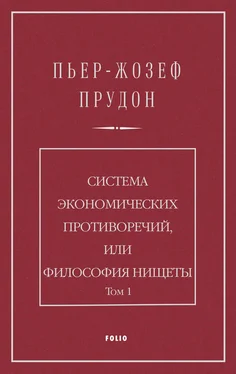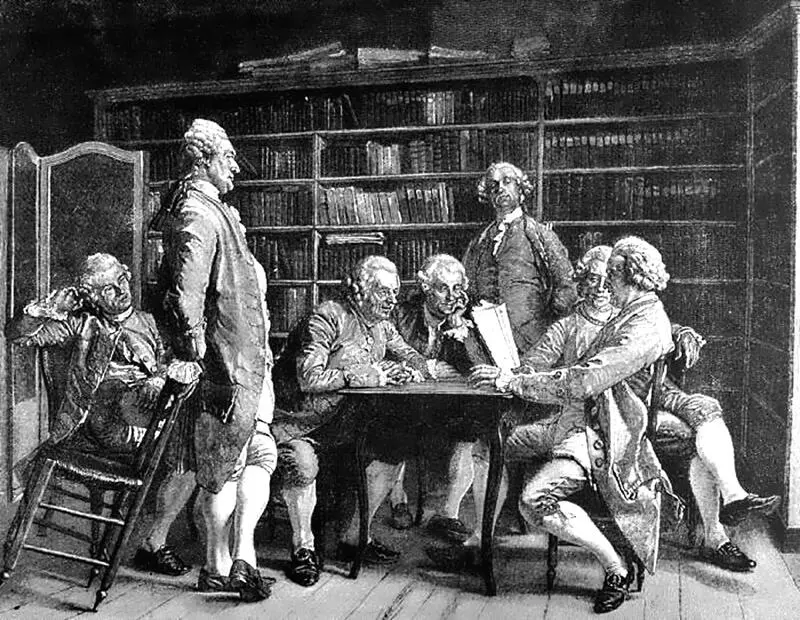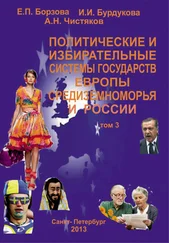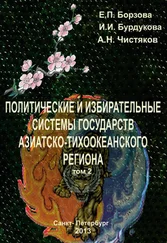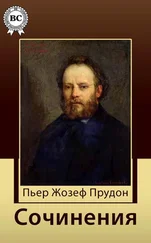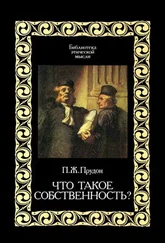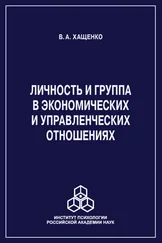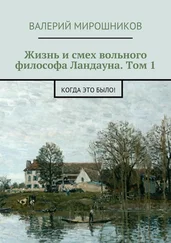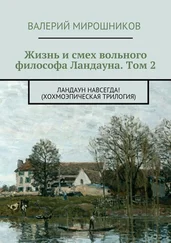Постараюсь пояснить так, в нескольких словах, чтобы меня услышали.
Если есть точка, в которой философы, несмотря на то, чем они обладают, наконец пришли к согласию, это, несомненно, различие между разумом и необходимостью, между субъектом и объектом мысли, между собой и отрицанием себя; между духом и материей, проще говоря. Я прекрасно понимаю, что все эти термины не выражают ничего настоящего и истинного, что каждый из них демонстрирует лишь отрыв от абсолюта, который и является настоящим и истинным, и что, взятые по отдельности, они все в равной степени содержат в себе противоречие. Но не менее верно и то, что абсолют совершенно непостижим для нас, что мы осознаем его только в его противоречивых терминах, которые не выдерживают давления нашего эмпирического опыта; и который, если единение помогает нам обрести веру, то двойственность является первым условием науки.
Итак, кто думает, а кто уже подумал? Что такое душа, что такое тело? Я вызываюсь избегать этого дуализма. Есть как сущности, так и идеи: первые демонстрируют природные различия, подобно вторым в их понимании; так же, как идеи Бога и бессмертия души, несмотря на их идентичность, возникли последовательно и противоречиво в философии, все же, несмотря на их слияние в абсолюте, также «я» и «не-я» возникают отдельно и противоречиво в природе, и мы располагаем одновременно как мыслящими сущностями, так и теми, которые не способны мыслить.
Теперь, кто бы ни пытался думать об этом, знает сегодня, что такое различие, каким бы реальным оно ни было, является самым противоречивым и абсурдным. Бытие не может быть понято так же без учета свойств духа, как и без учета свойств материи: так что, если вы отрицаете дух, исходя из того, что он не подпадает ни под одну из категорий времени, пространства, движения, основательности и т. д., вы, кажется, одновременно лишаетесь всех атрибутов, которые составляют реальность, и я, в свою очередь, отрицаю материю, которая предстает передо мной лишь в своей пассивности, оцениваемой только по ее формам, и которая (своевольная и свободная) нигде не проявляется в качестве причины и не проявляется полностью как субстанция: и мы приходим к чистому идеализму, то есть к небытию. Но небытие противостоит чему-то – не знаю, чему, но тому, что существует и мыслит, объединяясь в состояние (не могу сказать, в какое) синтеза, или, наоборот неизбежного разрыва всех признаков бытия. Поэтому мы вынуждены начать с дуализма, чьи термины, которые нам хорошо известны, ошибочны, но которые, будучи для нас условием истины, обязывают нас; одним словом, мы вынуждены начать с Декарта и с эго человеческого рода, то есть с разума.
Но поскольку религии и философии, растворенные в анализе, слились с теорией абсолюта, мы так и не узнали лучше – что же такое дух, и мы отличаемся в этом от предков лишь богатством языка, которым мы прикрываем неизвестность, которая нас окутывает. Только в то время, как для людей прошлых времен разум проявлялся извне, для современников, похоже, он проявляется изнутри. Теперь, независимо от того, помещаем ли мы его внутри или снаружи, как только мы утверждаем его в силу порядка, мы должны признать его везде, где проявляется порядок, или не признавать его нигде. Нет причин приписывать больше разума голове, которая произвела Иллиаду, чем той, которая открыла массу вещества, кристаллизующуюся в октаэдры; и, наоборот, настолько же абсурдно связывать систему мира с физическими законами, не принимая во внимание персональное эго – так же, как приписывать победу при Маренго стратегическим комбинациям, не принимая во внимание Первого консула. Единственное отличие, которое можно отметить, это то, что в последнем случае мыслящее «я» локализовано в мозгу Бонапарта; тогда как в отношении вселенной это «я» не располагает особым местом и распространено повсюду.
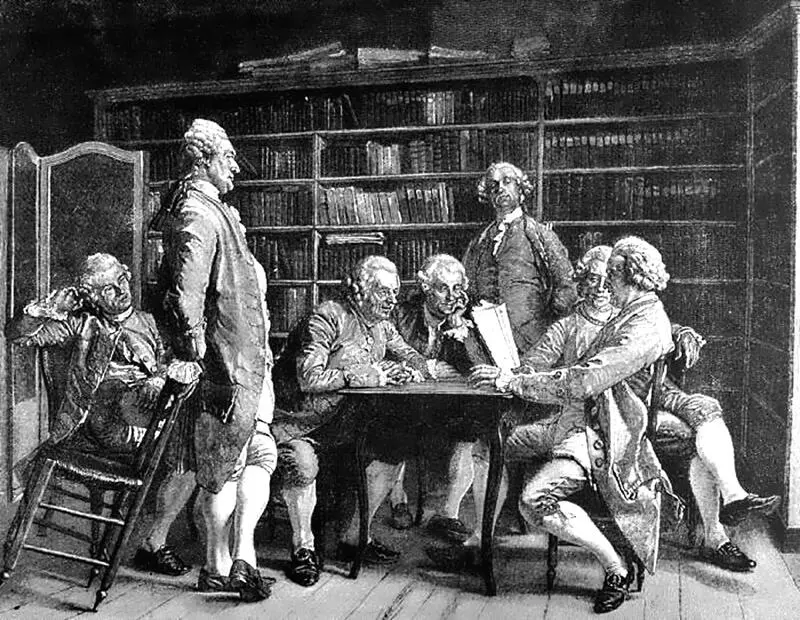
«Наша наука все еще настолько груба и полна недобросовестности; наши ученые демонстрируют столько нахальства при минимуме знаний; они настолько бесстыдно отрицают факты, которые смущают их, что я не доверяю их умам так же, как не доверяю суевериям».
П.-Ж. Прудон, «Философия нищеты»
Материалисты считали, что они придерживались противоположного мнения, утверждая, что человек, уподобляя вселенную своему телу, завершил это сопоставление, присвоив вселенной душу, подобную той, которую он считал основой своего бытия и своей мысли; таким образом, все аргументы существования Бога сводились к аналогии тем более ошибочной, поскольку сам термин сравнения был гипотетическим.
Читать дальше