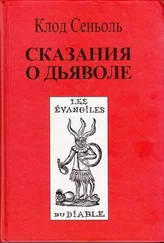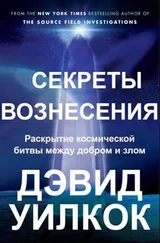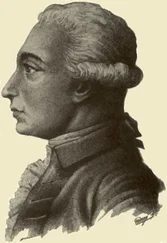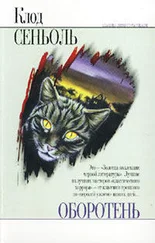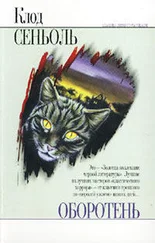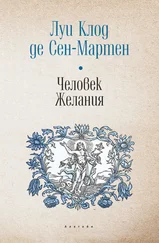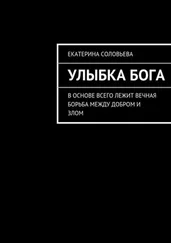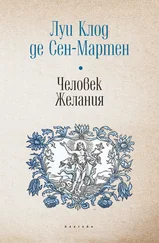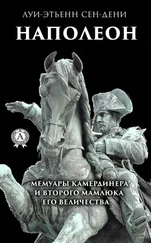«Библиотеки суть для духа людского то же самое, что и аптеки для его тела. И одни и другие – свидетельства его болезней. Иногда служат они для облегчения страданий, гораздо чаще – их увеличению, что приводит к смерти, редко и первые и вторые болезни исцеляют и никогда человека не делают для них неуязвимыми. Лишь в себе самом он может найти и здравие своё и бессмертие. Всеми этими снадобьями должен он пользоваться предусмотрительно, да и с большой осторожностью и очень выборочно, никогда не забывая того, что если иногда и бывают они ему полезны, ни единого мига нет в его жизни, когда бы он без них не мог обойтись» [Saint-Martin 1807 I: 304–305].
«Мёртвые книги мешают нам познать книгу жизни», заметит он, сделав исключение для одного автора:
«Бёме, мой Бёме, ты единственный, кого я здесь не подразумеваю. Только ты нас приводишь к этой книге жизни. И всё же очень нужно, чтобы к ней можно было прийти и без тебя» [MP № 40].
Книги Сен-Мартен «отбросил» ещё в юности [MP. № 522].
Он был склонен даже противопоставлять чувственную науку познания мира, любящую говорить, истинной мудрости, хранящей молчание:
«Учёные на этом свете только и делают что говорят, да и то о вещах ложных. Мудрецы же не говорят ни слова, и, отражая [саму] мудрость, непрестанно творят живую истину (opèrent sans cesse le vif et le vrai)» [MP. № 805].
Не только книги, но и всякое вслух произнесённое слово Сен-Мартен оценивал невысоко:
«Моя дражайшая Б. (Шарлотта Бёклин – М. Ф.), однажды читала кое-какие мои записи. В числе их я поместил и следующую [37]: "Слово, которое держишь при себе, только обретает силу, ничто так человеку не придаёт силу как молчание”. Она взяла перо и своей рукой приписала: "da capo” (ит. «с головы, от начала», музыкальный термин: [повторять] «с начала», то есть «повторять это место снова и снова» – М. Ф.)» [MP. № 112].
Часто речи он сознательно предпочитал молчание:
«Тысячу раз упрекали меня в том, что я не говорю, но говорить мне хотелось, только когда я мог высказать всё, а высказать всё хотелось мне только тем, кто был решительно настроен всё бросить ради истины» [MP. № 295].
Напряжённая диалектика молчания и речи занимала видное место в философии Сен-Мартена. Для него есть лишь два пути найти истину: или же о ней хранить «полное молчание» (путь «пифагорейский») или же говорить уже только о ней [MP. № 453].
Образ «школы молчания» в Аталанте, которая могла научить слушателей «живым началам и истинам», из 71-й песни «Крокодила» показателен. Молчание у Сен-Мартена могло, не теряя в своей ценности, обретать карнавальные черты, не чуждые сюжету его поэмы. Среди своих «весёлых» произведений кроме «Крокодила» Сен-Мартен упоминает «одну оперу, где я постарался, чтобы глухие не были бы в обиде больше, чем слышащие, потому как заключена она в тишине, за которой следует вздох, и далее они вновь следуют друг за другом, повторяясь» [MP. № 112]. Эти скорее трагикомические, чем комические образы, чуждые «постмодернистскому» издевательству над читателем, немаловажны для понимания характера Сен-Мартена и специфики его учения:
«Лишён я, так сказать, несчастья земного, и всё же я самый несчастный человек на свете. Нету у меня, так сказать, радости земной, и всё же я самый счастливый человек на свете. Здравия желаю тому, кто это правильно поймёт» [MP. № 878] [38].
Если Сен-Мартен столь презрительно отзывался даже о собственных книгах, не говоря уже о чужих, то, любопытно узнать, как же другие отзывались о его работах? Быть может, самоуничижение Сен-Мартена было обычным кокетством?
Нет, эта настороженность была взаимной – книги Сен-Мартена, начиная с самой первой, не встретили сочувственного отношения у большинства крупных интеллектуалов его времени, как до Революции, так и после [Bates 2000: 635–636]. Вольтер (1694–1778), крупнейшая фигура французского Просвещения, уже при жизни обретший культовый статус, на склоне лет, за пару лет до смерти ознакомился с первым трудом Сен-Мартена, опубликованным в 1775 г. Отзыв известного острым языком Вольтера, данный в письме Д’Аламберу от 22 октября 1776 г., был уничтожающим:
«Ваш старый приятель мне расхвалил одну книгу под названием: "О заблуждениях и истине”. На беду свою я её заказал… Не думаю, что когда-либо из-под печатного станка выходило в свет что-то более невразумительное, туманное, дикое и ограниченное (deplus absurde, de plus obscur, de plus fou et de plus sot). Как же это подобная работа могла вашему свояку так хорошо "зайти”? Вы мне об этом и скажете» [39][Voltaire 1817 XII 2: 1311].
Читать дальше
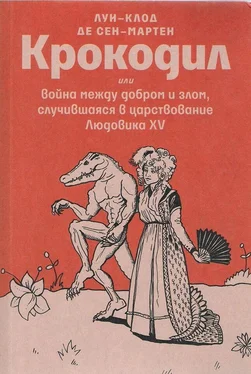
![Клод Сенак - Властелин Темного Леса [Историко-приключенческие повести]](/books/23854/klod-senak-vlastelin-temnogo-lesa-istoriko-thumb.webp)