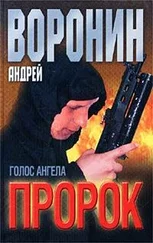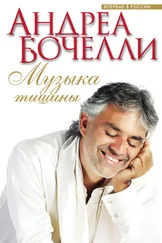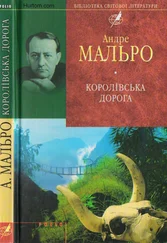Ведь открылся музей воображаемый, он доведёт до мыслимого предела то неполное сопоставление, которое предлагается настоящими музеями; принимая вызов последних, придумали типографское воспроизведение изобразительных искусств.
II
Первоначально скромное средство распространения, имеющее своей целью ознакомить с бесспорными шедеврами тех, кто не в состоянии купить гравюру, фотография, видимо, должна была подтвердить ценность приобретений. Но количество репродуцируемых произведений всё возрастает, постоянно множится число экземпляров репродукций, и метод репродуцирования влияет на отбор. Распространение произведений подпитывается всё более широким изучением рынка. При этом нередко предлагается по-настоящему значительное произведение, а радость познания сменяется восхищением; началось изготовление гравюр произведений Микеланджело, фотографируются малые мастера, примитив и незнакомое искусство – словом, всё, что можно упорядочить, сообразно тому или иному стилю.
Одновременно с тем, что фотография приносила изобилие шедевров, художники меняли своё отношение к самому понятию «шедевр».
С XVI по XIX век шедевр существует объективно. Принимаемая эстетика создаёт красоту мистическую, но относительно точную, основанную на том, что считалось греческим наследием; произведение искусства пытается приблизиться к идеальному изображению: шедевр живописи в эпоху Рафаэля – это картина, которую воображение не в состоянии улучшить. Едва ли он сопоставим с другими работами автора. Шедевр рассматривается не во времени, а в соперничестве – как и в случае любого другого соперничества – с идеальным произведением, о котором он заставляет думать.
От XVI века римского до XIX века европейского эта эстетика мало-помалу ослабевает, однако вплоть до романтизма будет считаться, что великое произведение несёт гениальность в себе самом. Независимо от каких бы то ни было истории и источника, оно узнаётся по своему успеху. Это односторонне глубокая концепция, это идиллический пейзаж, когда человек, властелин истории и своей способности к восприятию, отвергает – тем более властно, что он того не знает, – неистовые поиски гениальности, присущей каждой эпохе. Всё это ставится под сомнение, и восприятие становится уязвимым по мере развития различных концепций искусства, чьё тайное родство оно улавливало, не находя согласия.

Питер Пауль Рубенс и Франс Снейдерс. «Узнанный Филопемен» (фрагмент), 1609–1610 гг.
По-видимому, лавки продавцов картин, которые показаны нам на стольких полотнах, вплоть до «Вывески лавки Жерсена» [10] «Вывеска лавки Жерсена» – художественное завещание Антуана Ватто (1684–1721 гг.). Созданная для лавки продавца картин Э.-Ф. Жерсена, эта «воображаемая галерея» продолжает традицию «картины в картине».
, до того, как в 1750 году были выставлены второстепенные картины из королевских коллекций, позволили художникам наблюдать состязание различных искусств. Но почти всегда второстепенных произведений и под решающим воздействием господствующей тогда эстетики [11] Имеется в виду эстетика классицизма.
. К 1710 году Людовик XIV владел 1299 французскими и итальянскими картинами и 171 картиной «других школ». За исключением Рембрандта, который волнует Дидро по любопытным соображениям («Если бы я увидел на улице персонаж Рембрандта, мне бы захотелось с восхищением за ним последовать; но разве не пришлось бы тронуть меня за плечо, чтобы я обратил внимание на персонаж Рафаэля?»), и особенно весьма итальянизированного Рубенса, вне Италии XVIII век знал только второстепенных живописцев. Кто в 1750 году стал бы противопоставлять ван Эйка Гвидо? [12] Рени Гвидо (1575–1642) работал над фресками Квиринальского дворца (1610) и церкви Санта-Мария Маджоре в Риме; автор знаменитой фрески «Аврора» (1613–1614), блестящий представитель Болонской школы.
Итальянская живопись, античная скульптура, кроме того, что были живописью и скульптурой, представляли вершины цивилизации, которые упорядочивали воображение. В галереях монархов царила Италия. Ни Ватто, ни Фрагонар, ни Шарден не желали писать, как Рафаэль; но они и не считали себя равными ему. Позади оставался «золотой век» искусства.
Когда в Лувре времён революции, а затем в эпоху Наполеона, лицом к лицу сошлись, наконец, шедевры различных школ, традиционная эстетика ещё сохраняла всю свою мощь. То, что не было итальянским, инстинктивно оценивалось в свете итальянизма. А в Академию бессмертия допускались только «говорящие по-итальянски», даже если по-итальянски говорили с акцентом Рубенса. Для тогдашней критики шедевром было то полотно, которое выдерживало «очную ставку» с Собранием шедевров, хотя это собрание походило на «Квадратный Салон»: Веласкес, Рубенс (грандиозный и тревожащий Рембрандт оставался за скобками) туда допускались в «согласии» с итальянизмом, согласии, которое ещё до смерти Делакруа примет чёткие, недвусмысленные очертания академизма. Таким образом, на смену соперничеству с неким мистическим совершенством пришло соперничество произведений между собой. Но в этом диалоге Великих Ушедших, который, как предполагалось, любое новое крупное произведение должно было начинать с привилегированной части музея, установившейся по памяти, эта область, даже в период заката итальянизма, состояла из того, что произведения искусства имели общего между собой. Область эта, более узкая, чем может показаться: живопись маслом в трёх измерениях XVI и XVII веков. В этот диалог с трудом допускался Делакруа, а Мане там и вовсе не было места.
Читать дальше