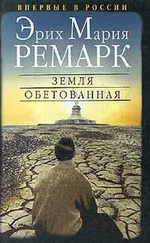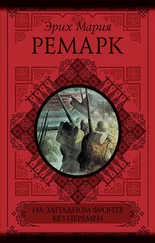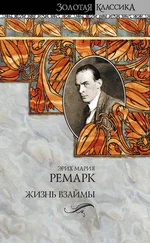Газенклевера я хорошо помнил. В тридцать девятом его, как и всех эмигрантов, кого удалось сцапать, французы бросили в лагерь для интернированных. Когда немцы были всего в двух километрах от этого лагеря, Газенклевер ночью покончил с собой. Он не хотел попадаться в руки соотечественников, которые определили бы его уже в свой концлагерь и там замучили бы до смерти. Однако, против всех ожиданий, немцы в лагерь так и не вошли. В последний момент частям было приказано совершить обходной маневр, и гестаповцы второпях просто проскочили лагерь. Но Газенклевер был уже мертв.
Я заметил, что Хирш рядом со мной тоже смотрит на портрет Газенклевера.
– Я не знал, где он, – сказал он. – Я хотел его спасти. Но в то время повсюду был такой кавардак, что труднее было найти человека, чем его вызволить. Бюрократия в сочетании с французской безалаберностью – страшная вещь. Они даже не хотели никому зла, но те, кто угодил в эти путы, были обречены.
Чуть в стороне от списка утрат я заметил фото Эгона Фюрста, без черной рамки, но с косой траурной полосой в нижнем углу.
– А это как понимать? – спросил я у изящной дамы. – Или траурная лента означает, что его убили в Германии?
Дама покачала головой:
– Тогда он был бы в рамке. А так Джесси просто скорбит о нем. Поэтому у него всего лишь полоска. И висит он поодаль. Все настоящие покойники висят вон где, рядом с Газенклевером. Их там уже много.
Похоже, в мире воспоминаний у Джесси был большой порядок. Даже смерть можно окружить мещанским уютом, думал я, не отрывая взгляда от пестрых подушечек на шезлонге под фотографиями. Иные из актеров были в костюмах персонажей, с успехом сыгранных когда-то в Германии или в Вене. Должно быть, Джесси привезла эти фотографии с собой. Теперь, в нафталинном бархате, в бутафорских доспехах, кто с мечом, кто при короне, они счастливо и победительно улыбались из своих траурных рамок.
На другой стене гостиной висели фотографии тех друзей Джесси, которые пока что были живы. И здесь большинство составляли актеры и певцы. Джесси обожала знаменитостей. Среди них нашлось место и паре-тройке писателей и врачей. Трудно сказать, какой из этих паноптикумов производил более загробное впечатление – тех, что уже умерли, или тех, что еще живы и не ведают своей смерти, но уже как бы чают ее: в потускневшем ореоле былых триумфов – в облачении ли вагнеровского героя с бычьими рогами на голове, в костюме ли Дон-Жуана или Вильгельма Телля, – они грустно глядели со стены, став с годами куда скромней и безнадежно состарившись для ролей, в которых запечатлены на фото.
– Принц Гомбургский! – продребезжал скрюченный человечек у меня за спиной. – Это когда-то был я! А теперь?
Я оглянулся. Потом снова посмотрел на фото.
– Это вы?
– Это был я, – с горечью уточнил старообразный человечек. – Пятнадцать лет назад! Мюнхен! Театр «Каммершпиле»! В газетах писали, что такого Принца Гомбургского, как я, десять лет не было. Мне пророчили блестящее будущее. Будущее! Звучит-то как! Будущее! – Он отвесил судорожный поклон. – Позвольте представиться: Грегор Хаас, в прошлом – актер «Каммершпиле».
Я пробормотал свое имя. Хаас все еще смотрел на свое неузнаваемое фото.
– Принц Гомбургский! Разве тут можно меня узнать? Конечно, нет! У меня тогда еще не было этих жутких морщин, зато были все волосы! Только за весом надо было следить. Я питал слабость к сладкому. Яблочный штрудель со взбитыми сливками. А сегодня? – Человечек распахнул пиджак, висевший на нем мешком, – под ним обнаружился жалкий, впалый живот. – Я говорю Дженни: сожги ты все эти фотографии! Так нет же, она дорожит ими, как родными детьми. Это у нее называется «Клуб Джесси»! Вы это знали?
Я кивнул. Так именовались подопечные Джесси уже во Франции.
– Вы тоже в нем состоите? – спросил Хаас.
– Время от времени. Да и кто не состоит?
– Она мне тут работу устроила. Немецким переводчиком на фирме, которая ведет обширную переписку со Швейцарией. – Хаас озабоченно оглянулся. – Не знаю, надолго ли. Эти швейцарские фирмы все чаще норовят сами писать по-английски. Если и дальше так пойдет, мои услуги вскоре не понадобятся. – Он глянул на меня исподлобья. – От одного страха избавишься, так другой уже тут как тут. Вам это знакомо?
– Более или менее. Но к этому привыкаешь.
– Кто привыкает, а кто и нет, – неожиданно резко возразил Хаас. – И однажды ночью лезет в петлю.
Он сопроводил свои слова каким-то неопределенным движением руки и снова поклонился.
Читать дальше