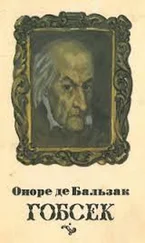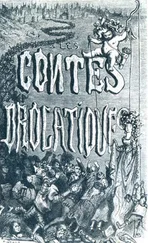Госпожа де Баржетон, оскорбленная пренебрежением, которое каждый выказывал ее поэту, воздала презрением за презрение, удалившись в свой будуар на все время, покуда занимались музыкой. За ней последовал епископ, которому старший викарий объяснил глубокую иронию его невольной колкости, и он желал искупить свою вину. Лаура де Растиньяк, плененная поэзией, проскользнула в будуар тайком от матери. Усевшись на канапе со стеганым тюфячком и усадив подле себя Люсьена, Луиза сказала ему на ухо, и никто того не заметил и не услышал:
– Милый ангел, они тебя не поняли! Но…
Твои стихи нежны, люблю их повторять.
Люсьен, утешенный лестью, забыл на короткое время о своих горестях.
– Слава не дается даром, – сказала г-жа де Баржетон, пожимая ему руку. – Терпите, терпите, мой друг, вы будете великим человеком; ценою мучений вы обретете бессмертие. Я желала бы испытать всю тяжесть борьбы. Храни вас Бог от жизни тусклой, лишенной бурь, в ней нет простора для взмаха орлиных крыльев. Я завидую вашим страданиям: вы, по крайней мере, живете! Вы развернете свои силы, вас воодушевит надежда на победу. Ваша борьба будет славной. Когда вы вступите в царственную сферу, где владычествуют высокие умы, вспомните о несчастных, обездоленных судьбою, чей ум изнемогает, задыхаясь в удушливой атмосфере нравственного азота; о тех, кто погибает, сознавая постоянно, как хороша жизнь, но не имеет возможности жить; о тех, кому даны зоркие глаза, но они так ничего и не увидели; о тех, кто рожден с тонким обонянием, но вдыхал лишь запах ядовитых растений. Воспойте тогда цветок, что вянет в чаще лесной, задушенный лианами, жадными, буйно разросшимися травами, не обласканный солнцем, зачахнувший, не успев расцвесть! Ужели это не поэма жестокой печали, не сюжет совершенной фантазии? Какая возвышенная задача – изобразить юную девушку, рожденную под небом Азии, или дочь пустыни, заброшенную в какую-нибудь страну холодного Запада: она призывает возлюбленное солнце, умирая от неизреченной тоски, равно убитая холодом и любовью! То был бы образ многих существований.
– Тем самым вы изобразили бы душу, тоскующую о небесах, – сказал епископ. – Некогда подобная поэма, несомненно, существовала, и я утешаюсь мыслью, что Песнь песней – один из ее отрывков.
– Напишите такую поэму, – сказала Лаура де Растиньяк, выражая наивную веру в гений Люсьена.
– Франции недостает серьезной духовной поэмы, – сказал епископ. – Поверьте мне: слава и богатство будут наградой талантливому человеку, который потрудится ради религии.
– Он напишет, ваше высокопреосвященство, – сказала г-жа де Баржетон с воодушевлением. – Разве идея поэмы не забрезжила уже как пламя зари в его глазах?
– Наис пренебрегает нами, – сказала Фифина. – Что она там делает?
– Разве вы не слышите? – отвечал Станислав. – Она оседлала своего конька и выезжает на громких фразах, у которых нет ни головы, ни хвоста.
Амели, Фифина, Адриен и Франсис появились в дверях будуара вслед за г-жой де Растиньяк, которая искала дочь, собравшись уезжать.
– Наис, – заговорили сразу обе дамы, восхищенные случаем нарушить уединение будуара, – будьте так милы, сыграйте нам что-нибудь!
– Душеньки, – отвечала г-жа де Баржетон, – господин де Рюбампре прочтет нам «Апостола Иоанна на Патмосе», дивную библейскую поэму.
– Библейскую! – удивленно повторила Фифина.
Амели и Фифина воротились в гостиную, принеся туда это слово как пищу для насмешек. Люсьен уклонился от чтения поэмы, сославшись на слабую память. Когда он снова появился в гостиной, он уже ни в ком не возбудил ни малейшего интереса. Каждый был занят беседой или игрой. Лучи поэтического ореола померкли: землевладельцы не видели в нем никакого проку; люди с большими претензиями опасались Люсьена, чувствуя в нем силу, враждебную их невежеству; женщины, завидуя г-же де Баржетон, Беатриче этого новоявленного Данте, как выразился старший викарий, обдавали его ледяным презрением.
«Вот каков свет!» – думал Люсьен, спускаясь в Умо по склонам Болье, ибо бывают в жизни минуты, когда предпочитаешь путь более долгий, чтобы движением поддержать ход мыслей, теснящихся в голове, и отдаться их потоку. Ярость непризнанного честолюбца отнюдь не обескуражила Люсьена, но придала ему новые силы. Как все люди, вовлеченные инстинктом в высшие сферы прежде, чем они обретут возможность там удержаться, он давал себе клятву пожертвовать всем, лишь бы упрочить свое положение в обществе. Он шел и попутно извлекал одну за другой отравленные стрелы, вонзившиеся в него; он громко говорил с самим собою; он бранил глупцов, с которыми только что столкнулся; он находил колкие ответы на глупые вопросы, которые ему предлагались, и это запоздалое остроумие повергало его в отчаяние. Когда он вышел на дорогу, ведущую в Бордо, что змейкой вилась у подножия горы вдоль берега Шаранты, ему почудилось при лунном свете, как будто у самой реки, на бревне, неподалеку от фабрики, сидят Ева и Давид, и он спустился к ним по тропинке.
Читать дальше