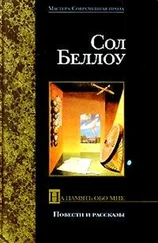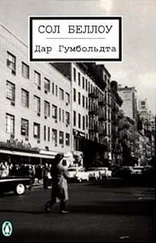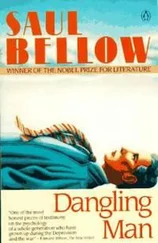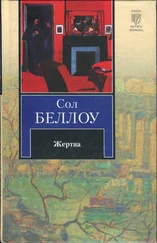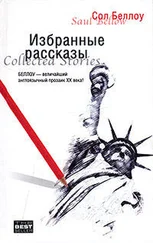Продолжать жить за Гумбольдта? Он мечтал украсить мир сиянием ума и духа, но ему не хватило материала. Он успел прикрыть человека только до пояса, внизу осталась уродливая нагота. Гумбольдт – восхитительный и великодушный человек с золотым сердцем. Но его ценные качества нынче считаются старомодными. Сияние, которого он добивался, устарело, и его было мало. Теперь нам нужно новое, совсем другое сияние.
И тем не менее за мной охотятся Кантебиле и его жена-диссертантка. Они заставляют меня вспомнить дорогие ушедшие деньки прежней Деревни, где поэты, художники, артисты крутили любовь, спивались, сходили с ума, стрелялись. Мне неинтересна эта парочка. Я пока плохо представляю миссис Кантебиле, но Ринальдо – один из скопища сброда нашего многоопытного практичного мира; в любом случае я был не в таком настроении, чтобы мне выкручивали руки. Мне не составило бы труда поделиться информацией с честным исследователем или даже с молодым, начинающим ученым. Помимо всего прочего, я сейчас занят, отчаянно, безумно занят личными и, как говорится, общественными делами. Личные – это Рената и Дениза, консультации с моим финансовым советником и с адвокатом, переговоры с судьей и множество других эмоциональных встрясок. Общественные – это участие в жизни моей страны, Западной цивилизации и мирового сообщества, наполовину выдуманного. Как редактор серьезного журнала «Ковчег», каковой, вероятно, никогда не появится, я должен думать о значительных выступлениях, дабы напомнить миру забытые истины. Мир, определяемый хронологическими вехами (1789–1914–1917–1939) и ключевыми словами (Революция, Технология, Наука и пр.), тоже был причиной моей занятости. Человек в долгу перед этими датами и понятиями. История так насыщена событиями, так непреодолима и трагична, что хочется лечь и уснуть. Я наделен исключительным даром быстро засыпать. Я смотрю на фотографии, сделанные в роковые часы человечества, и вижу себя удивительно молодым, с пышной шевелюрой. На мне двубортный костюм по моде тридцатых – сороковых, он плохо сидит. Я стою под деревом с трубкой в зубах, рука об руку с хорошенькой пухленькой девушкой. Смотрю и вижу, что сплю стоя, сплю мертвецким сном. Я проспал многие мировые кризисы (когда гибли миллионы).
Все это чрезвычайно важно. Признаюсь, что переехал жить в Чикаго с тайным намерением написать что-нибудь серьезное. Склонность к летаргическому существованию связана с этим намерением – написать об извечной борьбе между сном и бодрствованием, заложенной в природе человека. В последние годы президентства Эйзенхауэра я увлекся темой скуки. Чикаго – идеальное место для работы над ней; здесь я и создал свое главное эссе «О хандре». Именно на чикагских улицах лучше всего изучать состояние человеческого духа в индустриальную эпоху. Если кто-то предложит новое понимание Веры, Надежды, Любви, ему придется поломать голову над тем, кто примет его. Ему придется прежде разобраться в том немыслимом страдании, которое мы именуем скукой, тоской, хандрой. Я попытался трактовать хандру, как Адам Смит, Мальтус, Джон Стюарт Милль и Дюркгейм трактовали народонаселение, богатство, разделение труда. История и темперамент поставили меня в особое положение, и я старался обратить это обстоятельство в свою пользу. Я недаром читал великих специалистов по тоске – Стендаля, Кьеркегора, Бодлера. Я работал над эссе много лет. Я разгребал завалы материала, как шахтер разгребает завалы угля, но трудился несмотря ни на что. Я говорил себе, что даже Рип ван Винкль проспал всего двадцать лет, тогда как Чарлз Ситрин – на два десятилетия больше. Меня переполняла решимость высечь из потерянного времени искры истины. Такая же усиленная умственная работа продолжалась в Чикаго, где ради обострения восприимчивости я вступил в Центральный оздоровительный и носился по корту с торговцами ширпотребом и выбивавшимся в джентльмены хулиганьем. Дурнвальд однажды в шутку обмолвился, что о загадках сна много понаписал знаменитый, хотя и непонятный философ Рудольф Штейнер. Его книги, которые я поначалу читал лежа, вызвали во мне желание подняться. Штейнер утверждал, что между мыслью о поступке и волевым усилием, чтобы совершить его, существует провал, заполняемый сном. Сон может быть коротким, зато глубоким. У человека несколько сущностей, и одна из них – спящая сущность. В этом смысле люди похожи на растения, у которых все бытие есть сон. Эти соображения произвели на меня глубокое впечатление. Полную правду о состоянии сна можно постичь только в перспективе бессмертия духа. Я никогда не сомневался в том, что дух мой бессмертен, но держал язык за зубами. А когда держишь язык за зубами, голова пухнет от мыслей и чувствуешь, что сползаешь в растительное царство. Даже теперь, говоря с культурным человеком, таким как Дурнвальд, я почти не упоминаю слово «дух». Рыжеватый лысый Дурнвальд уже в годах, но крепко сбит и наделен недюжинной физической силой. Он холостяк, у него странные привычки, но человек в целом добрый, несмотря на прямоту, властность и даже задиристость. Нередко Дурнвальд ругает меня, но только потому, что любит, иначе не удостоил бы своего внимания. Большой ученый, один из образованнейших людей на Земле, он придерживался рационалистических взглядов, однако никоим образом не был узким рационалистом-догматиком.
Читать дальше