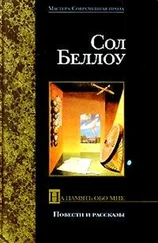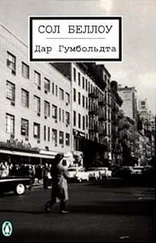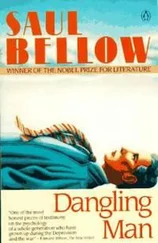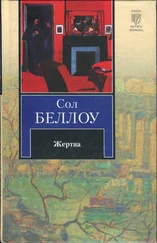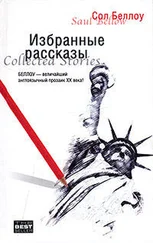От Рузвельта и Гувера Гумбольдт перешел к Ленину и Дзержинскому, главе ГПУ. От них перекинулся на преторианца Сеяна и зарождение тайной полиции в Римской империи. Потом завел речь о литературной теории Троцкого и о том, какое громадное место занимало большое искусство в багаже Революции. Затем вернулся к Айку и к мирной жизни профессиональных военных в тридцатые годы. Говорил, как сильно они пили. Упомянул Черчилля и его пристрастие к бутылке, остановился на секретных службах, призванных, помимо прочего, ограждать правителей от скандалов, и на системе охраны в мужских борделях Нью-Йорка… Алкоголизм и гомосексуальность. Брачная жизнь педерастов, Пруст и барон де Шарлюс, извращенцы в германской армии до 1914 года… Ближе к утру Гумбольдт начал читать труды по военной истории и военные мемуары. Он знал работы Уилера Беннетта, Честера Уилмота, Лиддела Харта, гитлеровских генералов. Он читал также Уолтера Уинчелла, Эрла Уилсона, Леонарда Лайонса, Реда Смита. Гумбольдт легко переходил от «желтых» газетенок к генералу Роммелю, от Роммеля к Джону Донну и Т.С. Элиоту. Он знал странные факты из жизни Элиота, о которых никто слыхом не слыхивал. Он был набит слухами и домыслами наравне с теорией литературы. Да, поэзии присуще искажать. Но что в стихе важнее – реальная жизнь или ее преображение? Имена, даты, догадки градом сыпались на меня, подкреплялись высказываниями классиков, Эйнштейна, За Габор, актрисы, известной тем, что имела двенадцать мужей, и ссылками на польский социализм и футбольную тактику Джорджа Галаса, на тайные мотивы Арнольда Тойнби и – как ни странно – практику торговли подержанными автомобилями. Богатые, бедные, евреи, не евреи, хористки, проститутки, религия, старые деньги и новые деньги, Бэк Бей, Ньюпорт, Вашингтон-сквер. Генри Адамс, Генри Джеймс, Генри Форд, Иоанн Креститель, Данте, Эзра Паунд, Достоевский, Мэрилин Монро и Джо Димаджио, Гертруда Стайн и Алиса, Фрейд, Ференци… Упоминая Ференци, Гумбольдт всегда приводил его высказывание: «Инстинкт абсолютно противоположен здравому рассудку, поэтому здравомыслие – крайняя форма безумия». Доказательства? Посмотри, как свихнулся Ньютон! И здесь мой друг непременно вспоминал Антонина Арто. Драматург однажды пригласил на свою лекцию самые блестящие умы Парижа. Когда все собрались, выяснилось, что никакой лекции нет и не будет. Арто просто вышел на сцену и зарычал, как дикий зверь. «Раззявил хайло и давай рычать, – пояснил Гумбольдт. – Парижские умники перепугались, замерли от восторга: это было нечто. Зачем он это сделал? До того как стать художником, Арто был неудавшимся священником. Неудавшиеся священники – спецы по богохульству. Их богохульство нацелено на тех, кто верит. Во что? В разум, а разум, по Ференци, заряжен безумием. Спрашивается, что это означает в широком смысле. Это означает, что интеллектуалов, этот новый класс трогает только то искусство, которое прославляет первенство идеи. Вот почему положение культуры и ее история стали содержанием искусства. Вот почему утонченная аудитория с почтением внимала рычанию Арто. Она считает, что цель искусства в том и состоит, чтобы воодушевлять, рождать идеи и язык. Просвещенная публика в современных странах – это думающая среда на той стадии общественного развития, которую Маркс называл первоначальным накоплением. Интеллектуалы хотят свести шедевры к качеству языка. Рычание Арто – это поступок, атака на воцарившуюся в прошлом веке «религию искусства»; ей на смену должна прийти религия речи, религия слова, религия языка. Теперь ты понимаешь, – продолжал Гумбольдт, – почему так важно, чтобы в администрации Стивенсона был советник по культуре, человек, понимающий этот общемировой процесс».
Кэтлин наверху укладывалась спать. Сквозь дощатый потолок (или пол – как посмотреть) было слышно каждое ее движение. Мне было завидно. Я продрог как цуцик и сам мечтал забраться под одеяло. Но Гумбольдт втолковывал мне, что до Трентона пятнадцать минут езды, а оттуда рукой подать до Вашингтона – два часа поездом. Ничего не стоит туда махнуть. Стивенсон уже связался с ним и назначил встречу. Надо помочь ему срочно набросать вопросы, подлежащие обсуждению. Мы просидели до трех часов. Я пошел в отведенную мне комнату. Гумбольдт наливал себе последнюю порцию джина.
Наутро он воодушевился еще более. Мы завтракали, у меня голова кружилась от сыпавшихся градом сведений о мировой истории и его тонких наблюдений над ней. Всю ночь Гумбольдт глаз не сомкнул.
Читать дальше