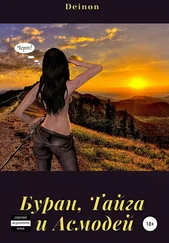"Никогда, говорит, не узнаете моих товарищей!"
"Скажешь, врешь! Сгноим тебя здесь", — это начальник на него.
"Сгноить, говорит, можете, а товарищей не выдам", — а сам так смотрит на начальника смело, как будто ему ничего не страшно...
Начальник пуще разозлился, велел заковать его в кандалы и закричал:
"В пятый его! Вот в пятом посидит, так помягче будет!"
Я притаился, повели его мимо меня, а я вслед за ними. Спустились в подвал. Темно, ничего не видно.
Дядя долго отпирал: дверь-то заржавела. Я думал, что и конца не будет. Отпер, наконец, заскрипела дверь, а там темнота. Втолкнули закованного, он закричал:
"Здесь мокро!"
А дядя захохотал:
"А ты думал — тебя в горницу ведем, ишь-ты!" и захлопнул дверь. Другой тюремщик тоже засмеялся:
"Ничего, — говорит, — остынет, — шелковый будет".
Заключенный что есть силы стучал в дверь, кричал, — никто даже и не обернулся...
— Понимаешь, Сенька, как я разозлился на дядю, на всех людей!..
Кабы сила была, разбил бы все эти подвалы, тюрьмы. Тюремщиков бы этих... не знаю, что бы с ними сделал!
Колька замолчал; слышно было, как у него скрипнули зубы.
— Ну, а что же с тем-то — скованным- то, — выдал он? — допытывался Сенька.
— Не знаю. Я тогда скоро от дяди убежал. Там разве узнаешь? Попадет туда человек, — как будто и на свете такого никогда не было. Потом, когда водили партии закованных, смотрел, нет ли того, — не было.
— Знаешь, Сенька, — зашептал опять Колька, помолчав, — убежим! Гошку подговорим.
— Ну, он как трусливый заяц — всего боится. Вот не позвать ли солдата с собой, все-таки он большой, — предложил Сенька.
— Солдата нельзя, — он красных боится, его могут схватить. И так, говорит, по ночам мерещатся ему красные, с саблями за ним гоняются, вот-вот зарубят.
— А куда у нас, Колька, сабли спрятаны? — вспомнил Сенька.
— За трубой над мастерской зарыты. Надо нам по ножу сделать из них, без ножа нельзя бежать.
Долго еще продолжались такие разговоры в спальне, пока сон не затуманил ребячьи головы, не прервал их смелые замыслы.
Прошел месяц. Морозные туманные дни сменились ясными солнечными. Кой-где на полях вытаяли кочки, на которых вороны и грачи чистили свои носы.
Гришка, заядлый голубятник, все чаще и чаще стал отлучаться из мастерской и пропадал целыми часами на чердаке тайдановой избушки, где у него в голубятне две хохлатые голубки сидели на яйцах.
— Гришко! корзинко работать надо! — ворчал Шандор.
— Ну так что, я не работаю, что ли? выйти нельзя! — огрызался Гришка.
И Тайдан все чаще выходил из своей избушки, смотрел не небо, на солнце, на скворешники.
— Вот-вот скворцы должны быть, — говорил он ребятам, и лицо его расплывалось.
— Весна идет!
В один из таких дней в приют явился незнакомый человек, спросил заведующую.
Сенька повел его к Катерине Астафьевне и слышал, как он сказал:
— Я — новый заведующий.
Через минуту по всем углам неслось:
— Новый заведующий, новый заведующий!..
А Сенька через двор бежал уже к Тайдану. Приоткрыл дверь и крикнул:
— Новый заведующий!
Манька-Ворона подсматривала в щелочку двери и разочарованно говорила столпившимся девочкам:
— О-о! какой-то простой мужик... и ножа у него никакого, и вил не видать...
— Дура! — обругала ее Зойка, — болтай, болтай... в кладовку захотела?
— А хоть и в кладовку посадят — не боюсь! И богу буду молиться! буду! буду! И в коммунию не запишусь! Что они со мной сделают?
— Замолчи, Манька! — зашикали на нее девочки. — Чтобы из-за тебя и нам попало!
Растворилась дверь. Девочки отскочили как ошпаренные.
— Это вот наши девочки, — рекомендовала Катерина Астафьевна.
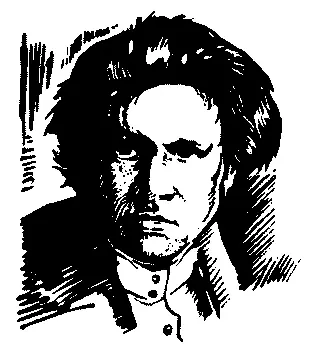
Заведующий поздоровался. Осмотрел спальню, спустился вниз к мальчикам, в мастерскую.
Мальчишки притихли.
— Как сыро здесь и грязно, — сказал заведующий, — давно белили?
— Два года не белено, — не дают ни денег, ни извести, что поделаешь? — ответила Катерина Астафьевна.
Прошли в спальню, где вплотную стояло 20 кроватей, и только около самых стен можно было проходить.
— Здесь еще сырее, — пожимал плечами заведующий.
Вечером после ужина собрались в столовой. Новый заведующий расспрашивал ребят, кого как зовут, откуда они, есть ли отец и мать, давно ли в приюте.
Сначала ребята неохотно отвечали, боялись проговориться, как бы чего не вышло: неизвестно, для чего спрашивает.
Читать дальше

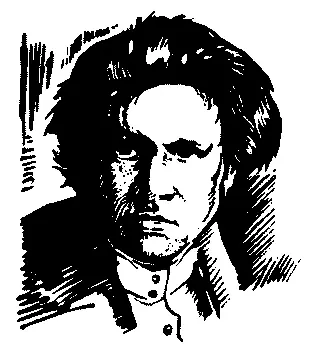

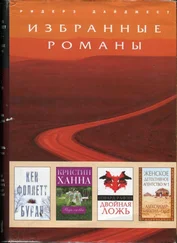




![Голубев Владимир - Бедный Павел часть 1 [АТ]](/books/385860/golubev-vladimir-bednyj-pavel-chast-1-at-thumb.webp)