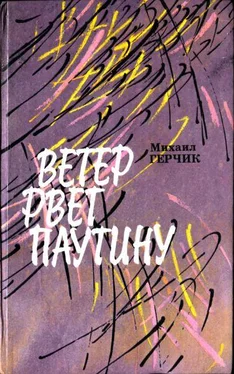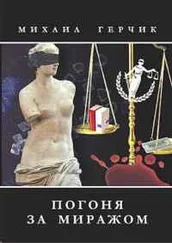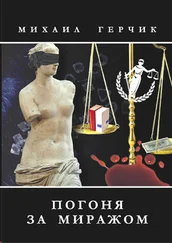Все новые лекарства, в том числе знаменитый галантамин, которым меня лечат в институте, пока помогают мне очень мало. Правда, Федор Савельевич ходом лечения доволен, но мне от этого не легче. Я и сам не собираюсь стать чемпионом по бегу или капитаном футбольной команды, но неужели мне так и придется всю жизнь пролежать привязанным невидимыми веревками к этой проклятой постели? А если нет, то сколько еще это может длиться? Год? Два?
— К весне начнешь ходить. Правда, пока на костылях, но начнешь, — уверенно сказал Сокольский во время последнего осмотра.
Как трудно в это поверить! Ведь я почти не чувствую ног.
Меня очень тревожит мама. С каждым днем ей становится все хуже. Она осунулась, стала раздражительной и злой и ни за что ругает меня. Она перестала ходить на работу, целыми днями слоняется из угла в угол и часто плачет. Когда она поворачивается ко мне, глаза у нее пустые и страшные.
Оживает она только тогда, когда приходит дядя Петя. С каждым днем я ненавижу его все сильнее и сильнее. Зачем он ходит к нам? Что ему надо?
Он пьет чай и вытирает краем полотенца пот с приплюснутого лба.
— Все эти профессора — одна только видимость, — хрипло говорит он и буравит меня холодными, как ледышки, глазами. — Что они разумеют в человеческом организме? Вот у нас в селе святой брат Маврикий — это, скажу я тебе, профессор. Божьим словом да святой водичкой от всех хворостей лечит. Народ к нему валом валит, никого милостью своей не обходит. Враз из любого сатану изгоняет.
Дядя Петя хлюпает носом, тоненький голосок его начинает дрожать, он смотрит на мать тяжелым упорным взглядом, и она пригибается к столу. Довольный, он растягивает в улыбке мокрые губы, резко поворачивается ко мне и торжественно говорит:
— Надо и тебя, Александр, к нему везти. Одна надежда на него. Крещение примешь, от суеты богопротивной отрешишься, — он кивает на книги, сложенные на тумбочке, — и явит тебе господь милость свою. Так-то, брат Александр.
Я отворачиваюсь к стене — говорить с ним мне не хочется. «Чтоб ты под трамвай попал, зараза!» — с тоской думаю я. Но назавтра он приходит вновь и вновь о чем-то толкует с матерью, и они вместе листают библию — две угрюмые тени огромными черными пауками медленно колеблются на белой стене.
Несколько раз к нам приходили с маминой фабрики. Увидев кого-нибудь в окне, она тут же ложилась в постель, жаловалась, что заболела. Я слушаю ее, и мне становится противно. Сколько раз она мне говорила, что библия учит — не лги, не обманывай, а сама… Хочется закричать, что она врет, что ей непременно нужно на фабрику, к людям, потому что, когда она работала, она не была такой, но я сжимаю зубы: ведь это моя мама! И люди уходят, на прощание озабоченно спрашивая, не надо ли чем помочь, и желая ей поскорее поправиться.
Ребята бывают у меня каждый день, а Венька даже два раза в день. Утром, торопясь в школу, он останавливается у нашего окна и, заложив пальцы в рот, оглушительно свистит. Я подтягиваюсь на руках и выглядываю, он машет мне и убегает.
Побывали у меня и учителя. Мне очень понравилась учительница русского языка Анна Петровна и математик Григорий Яковлевич, наш классный. Ребята втихомолку зовут его «плюс на минус». Он проверил все мои тетрадки по алгебре и геометрии и расставил в них большущие жирные тройки, четверки и пятерки. И ни одной двойки. А потом два часа гонял меня по всему учебнику, покручивая на пальце свое пенсне на черном шелковом шнурочке, и еще здорово отругал за то, что я подзабросил устный счет.
Григорий Яковлевич ругал меня, а на голове у него смешно вздрагивал седой хохолок:
— Можно подумать, что я никогда не был в вашем возрасте! (Интересно, он всех называет на «вы» или только меня?) Мальчишки, бредят космическими кораблями, мечтают строить обитаемые искусственные спутники и не умеют быстро помножить в уме двузначное число на 101. Это же просто обсурд. Нет-нет, прежде чем лететь к звездам, нужно научиться считать. Да, считать! Между прочим, Юрий Алексеевич Гагарин и Герман. Степанович Титов очень любили математику. Вы не согласны?
И он с удивлением вглядывался в меня беспокойными близорукими глазами, хотя я лежал тихо, как мышь, и даже не думал возражать.
— Согласен, Григорий Яковлевич, — поспешил я заверить его. — Я что… Я ничего…
Теперь, когда в классе начинали новую тему по алгебре, физике или геометрии, вместе с ребятами приходил ко мне и он. Длинный пиджак его всегда был перемазан мелом, и хохолок воинственно торчал на макушке, а на шнурочке болталось пенсне — два стеклышка и дужка. Он садился возле моей кровати и уходил только тогда, когда я без запинки мог доказать ему теорему, объяснить физический закон или, решая пример, применить любую формулу.
Читать дальше