— Мы этого так не оставим, — сказала Тошка. — Найдутся люди, которых ему не удастся так легко поднять.
— Лучше бы у меня была овчарка или волкодав, — сказала Надя. — Тогда он бы боялся.
Мы вышли на улицу. Грустно постояли в кружочке: между нами, задрав голову, сидел виновник происшествия.
— Все понимает, — сказала Надя.
— Мы этого так не оставим, — повторила Тошка.
Удивительно, как один человек, просто подлец, и фамилия-то у него славная, может начисто испортить настроение нескольким людям. А эти люди не могут ничего сделать для восстановления самой обыкновенной справедливости. А эта девчоночка Надя, совсем букашка, по-моему, просто боится возвращаться домой и наверняка будет околачиваться во дворе до самого вечера, пока не вернутся с работы ее родители. Разве нельзя дать объявление в газете или по радио, что вот то-то и то-то делать просто подло. Каждый человек, просыпаясь утром, читал бы об этом.
— Пожалуйста, не расстраивайся, — сказала Тошка. — Я уверена, ты в тысячу раз храбрее его и в миллион раз благороднее.
— Не успокаивай меня, — сказал я. — Надо было укусить его или подставить ему ножку. Знаешь, как я умею подставлять ножку. И представляешь, он бы вытянулся во всю длину и своей противной мордой стукнулся об пол.
Сам не свой я был, говорил не думая. Думал совсем про другое. Почему-то вспомнил строчки из последнего письма отца, которое он мне прислал из госпиталя. Он там писал о матери: «Всегда помни о ней и старайся ее понять».
Я подумал, что не выполнил этой просьбы. Она-то меня понимала, а я ее нет. Я все время думал только о себе, но не о матери и тем более не о Геннадии Павловиче. И я понял, что она была права, когда сказала мне: «Отец не хотел бы видеть тебя таким».
— Ты думаешь, Иван совсем пропащий человек? — спросила Тошка.
— Нет, — ответил я. — Так я не думаю.
А потом я подумал о неизвестной мне Верочке Поляковой, и о Ленке, и о Наде, и почему-то о братьях Рябовых, и о всех тех людях, которые были незаслуженно обижены и никто к ним вовремя не пришел на помощь. Только разве никто? Разве мы не готовы им помочь?
Вот Эфэф говорил мне, что мы еще в бою, мы еще солдаты. И этот бой будет длинным, но он нас сделает чистыми и прекрасными. И Эфэф солдат, он не отступит никогда. И Тошка солдат, она ведь барабанщица, и я тоже буду солдатом.
Дед говорил, что я не судья матери. А кто же я ей, если не судья? Все люди судьи друг другу, и я судья своей матери, только я должен быть справедливым и великодушным. И она мне судья. И ему, деду, я тоже судья.
— Что теперь делать? — спросила Надя.
— Не волнуйся, — сказал я. — Ничего он тебе не сделает, этот Грибоедов. Его мы одолеем. Останется у тебя собака.
И пусть у каждого, кто захочет, будет собака.
И пусть поскорее наступит такой день, когда мы будем счастливы и когда с полуслова будем понимать друг друга и по первому зову приходить на помощь. Вот это и будет счастливый день.
А пока мы стояли и думали обо всех наших бедах. Нет, мы не плакали, ведь мы были солдаты, и даже маленькая девочка Надя не плакала. Но и весело нам еще не было.


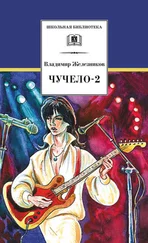

![Владимир Железников - Хорошим людям – доброе утро [Рассказы и повести]](/books/398235/vladimir-zheleznikov-horoshim-lyudyam-dobroe-utro-r-thumb.webp)
