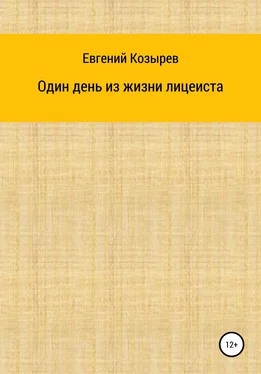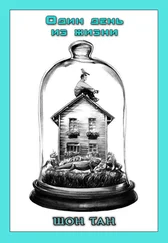Евгений Козырев
Один день из жизни лицеиста
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Саша проснулся еще до подъема, когда еще не были слышны в коридоре шаркающие шаги дежурного дядьки, встал с узкой постели на холодный пол и подошел к окну. Сквозь чернильную густоту ноябрьского утра россыпью еще более черных пятен на крыше соседнего церковного флигеля была видна стая ворон. Тяжелые и низкие облака шли со стороны залива, неся на своих плечах, то ли последний дождь, то ли первый снег. И эта пронзительная утренняя тишина замершей природы заставила Сашино сердце сжаться в комок, дыхание перехватило, как от ледяного душа и какие-то светлые слезы подступили к глазам. Он оглянулся на закрытую дверь, словно кто-нибудь мог уличить его в этой минутной слабости, потом прошлепал замерзшими ногами к постели и лег, подложив руки под голову.
«Спишь, мой дорогой друг? Спишь, Жано?» – чуть слышно прошептал Саша и провел пальцами по картонной перегородке. Соседняя «келья» принадлежала Ване Пущину – другу Саши Пушкина по Лицею. То ли от созвучия фамилий, то ли по родству душ, мальчики сблизились с первых дней, вместе проводили время и часто переговаривались, лежа в постели, обсуждая события прошедших дней, подростковые шалости, преподавателей и товарищей.
За тонкой перегородкой раздалось сопение, сонный бессвязный лепет. Наконец, ровное дыхание друга не оставило сомнений в том, что Жано спал крепким утренним сном без сновидений. Саша вздохнул и улегся поудобнее. Замершие пальцы ног начали согреваться. Беспричинные слезы высохли, сердце перестало выпрыгивать из-под левой ключицы, дыхание, прежде глубокое и бурное, стало размеренным и тихим.
Вот так всегда! Нахлынет что-то. Восторг и печаль в одном прикосновении северного ветра к стеклу окна. Смутные тени встреченных людей, картинки из прошлого, обрывки рифм, которые, словно ростки на весенней пашне, ползут сквозь душу, прокалывая ее суровой остью, распускаются спелыми колосьями стихов.
Саша мечтательно закрыл глаза и стал вспоминать Катеньку, сестру Саши Бакунина, встреченную им два месяца назад на лицейском балу.
«О милая, повсюду ты со мной,
Но я уныл и в тайне я грущу
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннюю луною
Я все тебя, прелестный друг, ищу!»
– Боже, как хороша, Жано! Как она хороша! Саша сказал мне, что к лету они снимут здесь дом. Наверное, мы будем видеться. Какое дивное бирюзовое платье было на ней в прошлую среду. А вчера, я стоял подле окна и все глядел на дорогу – ждал экипажа. Нет, напрасно. Как она хороша!» – Саша не заметил, как произнес вслух последние слова и из-за картонки донесся голос Вани Пущина.
– Ты прав, Пушкин, хороша, но ты еще весьма молод. Тебе только пятнадцать. А ей девятнадцать. Я тебя старше на целый год. Мне и карты в руки».
– Что ты сказал, подлый Жано?! Дуэль, непременно дуэль!
В эту секунду коридор огласил дребезжащий звук колокольчика, и скрипучий голос дежурного дядьки известил всех о подъеме и утренней молитве. Захлопали двери и, вскоре, в коридоре собралось человек двадцать пять. Дружески похлопывая друг друга по плечам, с неприбранными волосами и расстегнутыми синими мундирами с красными воротничками, лицеисты двинулись в залу на утреннюю молитву. По пути Пушкин стряхнул с себя утреннюю меланхолию, помирился с Пущиным, отпустил пару шуток в сторону портрета Василия Федоровича Малиновского – первого директора Лицея, поставил подножку Пашке Мясоедову – толстому увальню с прилизанными волосами и лорнетом на золотом шнурке. Всюду снующий и везде успевающий Саша Пушкин разбудил лицеистов, кого-то доброй улыбкой и дружеским рукопожатием, кого-то желчно остротой или недозволенной шалостью. Ему отвечали тем же.
Когда ввалились в залу шумной, разгоряченной ватагой, надзиратель по учебной и нравственной части Степан Фролов достал из ящика комода молитвенник и вложил в руки Модэста Корфа. Молитвы лицеисты читали по очереди, но Модэст читал их с особым выражением лица, закатывая глаза и подвывая, чем вызывал умиление надзирателя. Саша толкнул локтем приятеля Мишу Яковлева: «Смотри! Сейчас заблеет как баран!» И действительно. Корф сложил губы в трубочку, запрокинул голову и тонким, срывающимся голосом, похожим на блеяние, затянул: «Отче наш…»
Среди лицеистов началось оживление, и когда на паузе после выдоха, Модэст собирался выдать заключительное: «Аминь», Миша Яковлев, известный всем как выдумщик, пародист и лицедей, передразнивая Корфа, пропищал: «Все-е-е мы о-о-овцы твои-и-и, бе-е-е», зал зашелся от хохота. Красный, как рак, Корф сунул молитвенник Фролову и выбежал из залы. Надзиратель не успел заметить, чья шалость привела к столь поспешному бегству его любимого ученика. Он сдвинул брови и заскрипел: «Господа! Попрошу вас во время молитвы соблюдать правила приличия. А сейчас – всем в класс. После попрошу получить шинели. На носу зима».
Читать дальше