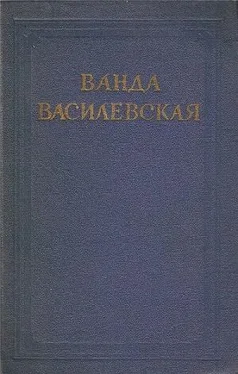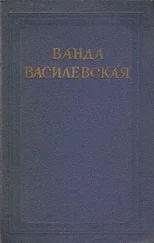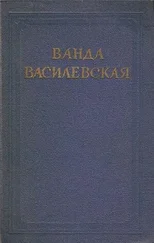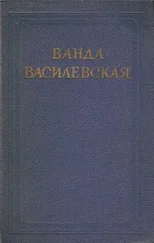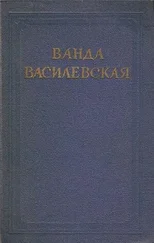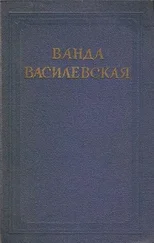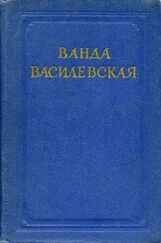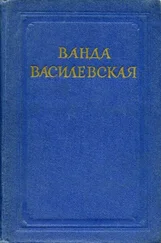Зося смотрит на морщинистые, дрожащие руки, на изборожденное морщинами лицо. Каждая такая морщина — след, который жизнь, проходя, откладывала на некогда гладком лице молодой девушки. Трудная, тяжелая это была жизнь. Сначала спина сгибалась над глинистой пашней, в сенокос и жатву лился с лица пот. Потом — работа на фабрике. Та пора, когда ткачиха шла по улице, неся тяжелый сверток с оружием для борьбы с угнетателями. Троих детей выходила Калиновская, «вывела в люди», как говорила она. А теперь, когда она лежит беспомощная, больная, возле нее нет никого.
— Да, Маня всегда относилась ко мне лучше всех, а теперь, когда она в больнице, никто уж обо мне не позаботится. Сыновья уехали, поженились, один в Америке. Говорят, ему хорошо живется, но про старую мать он не вспомнит.
У Зоси слезы навертываются на глазах. Заботливо поправляет она одеяло на ногах старушки.
— А ты, милая девочка, и все вы хорошие, что о старушке позаботились. Нелегко, нелегко жить на свете человеку, когда он уже не может работать…
Зося не знает, что сказать. А как хотелось бы ей утешить старушку! Ее маленькое сердечко возмущается такой несправедливостью.
Ведь эта Калиновская так тяжело работала всю свою жизнь не для себя — для других, для этих детей, которых она «вывела в люди». Неужели за все это ей не полагается спокойный угол, лучший, чем эта тесная каморка, и уход, лучший, чем она имеет, потому что в сущности она не имеет никакого. Но Калиновская не умеет долго печалиться. Несмотря ни на что, в ней еще сохранилось много бодрости.
— Эх, — говорит она, махнув рукой, — нечего тоску наводить! Вот лучше я расскажу вам, как меня раз мальчишки в деревне напугали.
Адась поскорее бросает щепочки, с которыми он возился у печки, и подбегает к кровати. Из предыдущего рассказа он мало понял. А вот такие истории — это для него. Он прислоняется к кровати и слушает.
— Вышла это я раз вечерком, потому что услышала какой-то скрип во дворе, да и отец говорит: «Конюшня, наверно, не заперта, надо бы запереть…»
Калиновская все рассказывает и рассказывает. В комнате чисто и уютно. Весело потрескивает огонь в печи.
Глядя на лица сидящих подле нее детей, старушка забывает о своих горестях и заботах, и бремя многих лет как будто спадает с ее плеч.
Возвращаясь с фабрики, Анка остановилась перед витриной. В ярком свете лампочек пестрели за стеклом разноцветные материи. Были здесь и однотонные, и с цветочками, и в горошек, и в полоску, и со всевозможными узорами.
Рядом с Анкой остановились две девочки.
— Какая тебе больше всего нравится?
— Сама не знаю… Вот эта, в горошек, красивая… Вон та с красными маками, гляди.
— Ну, это же простой ситец, — с гримаской ответила другая.
Анка отошла. Но услышанные слова долго звучали у нее в ушах. И особенно четко вспомнились на следующий день, когда она прошла за высокую ограду фабрики и принялась за свою обычную работу.
«Простой ситец», — сказала та девочка и, вероятно, совершенно не имела понятия о том, что значит «простой ситец». Так же как не понимала этого и сама Анка, даже тогда, когда мать рассказывала ей, как там, на фабрике. Только собственными глазами надо было увидать, что такое этот ситец.
Анка была как-то в кино, и как раз шел фильм о неграх. Глядя на быстро мелькавшие на экране картины, Анка узнала, как растут на полях хлопковые кусты, как из созревших, бурых коробочек высыпается белая хлопковая вата, как собирают ее в большие корзины негры — мужчины, женщины и дети. Видно было, как там, должно быть жарко, — экран пылал солнечным блеском, на небе не было ни одного облачка. Под этим знойным небом, под палящими лучами солнца негры собирали хлопок, с их лиц струился пот. Потом они складывали хлопок в огромные тюки, и корабли увозили их далеко-далеко. В порту грузчики перегружали тяжелые тюки в поезда, и хлопок путешествовал дальше. Наконец, высоко нагруженные пятитонки подъезжали к воротам фабрики. Тут уж не нужно ни кино, ни экрана. Анка сама уже знала, что дальше происходит с хлопком.
Мягкую хлопчатобумажную вату торопливо трепали руки девушек, расчесывали хитроумные машины, и механические самопрялки, которые обслуживала Анка, вытягивали ее в длинную-длинную, так часто обрывающуюся нить. Нить наматывалась на жужжащие шпули, чтобы потом перейти в ткацкий цех. Там грохотали рамы станков, над которыми в течение восьми часов гнулись мужчины и женщины. Из ткацкой готовые куски материи шли в красильню, в комнату с цементным полом, где в котлах кипит краска и все застилает густой пар. Потом еще сушилка, потом упаковочная, и только после всего этого «простой ситец» отправлялся в магазины, где руки продавщиц раскладывали его в витрине, чтобы он привлекал глаза прохожих своими красками и блеском.
Читать дальше