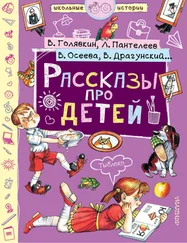Взглянула: злится – того гляди, глаза лопнут.
Неужели и это плохо? А уж лучшего я ничего не знаю.
Не спалось ночью. Чувствую, сердится он: как смею я тоже на постельке лежать. Может быть, тесно ему, – почём я знаю.
Слезла тихонько.
– Не сердитесь, чёрт, я буду в вашей спичечной коробочке спать.
Разыскала коробочку, легла на пол, коробочку под бок положила.
– Не сердитесь, чёрт, мне так очень удобно.
Утром меня наказали, и горло у меня болело. Я сидела тихо, низала для него бисерное колечко и плакать боялась.
А он лежал на моей подушечке, как раз посередине, чтобы мягче было, блестел носом на солнце и не одобрял моих поступков.
Я снизала для него колечко из самых ярких и красивых бисеринок, какие только могут быть на свете.
Сказала смущённо:
– Это для вас!
Но колечко вышло ни к чему. Лапы у чёрта были прилеплены прямо к бокам вплотную, и никакого кольца на них не напялишь.
– Я люблю вас, чёрт! – сказала я.
Но он смотрел с таким злобным удивлением:
Как я смела?!
И я сама испугалась, – как я смела! Может быть, он хотел спать или думал о чём-нибудь важном? Или, может быть, «люблю» можно говорить ему только после обеда?
Я не знала. Я ничего не знала и заплакала.
А вечером меня уложили в постель, дали лекарства и закрыли тепло, очень тепло, но по спине бегал холодок, и я знала, что, когда уйдут большие, я слезу с кровати, найду чёртову баночку, влезу в неё и буду петь песенку про «день-дребедень» и кружиться всю жизнь, всю бесконечную жизнь буду кружиться.
Может быть, это ему понравится?

Лизу, стриженую приготовишку, взяла к себе на Масленицу из пансиона тётка.
Тётка была дальняя, малознакомая, но и то слава богу. Лизины родители уехали на всю зиму за границу, так что очень-то в тётках разбираться не приходилось.
Жила тётка в старом доме-особняке, давно приговорённом на слом, с большими комнатами, в которых всё тряслось и звенело каждый раз, как проезжала по улице телега.
– Этот дом уже давно дрожит за своё существование! – сказала тётка.
И Лиза, замирая от страха и жалости, прислушивалась, как он дрожит.
У тётки жилось скучно. Приходили к ней только старые дамы и говорили всё про какого-то Сергея Эрастыча, у которого завелась жена с левой руки.
Лизу при этом высылали вон из комнаты.
– Лизочка, душа моя, закрой двери, а сама останься с той стороны.
А иногда и прямо:
– Ну-с, молодая девица, вам совершенно незачем слушать, о чём большие говорят.
«Большие» – магическое и таинственное слово, мука и зависть маленьких.
А потом, когда маленькие подрастают, они оглядываются с удивлением:
– Где эти «большие», эти могущественные и мудрые, знающие и охраняющие какую-то великую тайну? Где они, сговорившиеся и сплотившиеся против маленьких? И где их тайна в этой простой, обычной и ясной жизни?
У тётки было скучно.
– Тётя, у вас есть дети?
– У меня есть сын Коля. Он вечером придёт.
Лиза бродила по комнатам, слушала, как старый дом дрожит за своё существование, и ждала сына Колю.
Когда дамы засиживались у тётки слишком долго, Лиза подымалась по лесенке в девичью.
Там властвовала горничная Маша, тихо хандрила швея Клавдия, и прыгала канарейка в клетке над геранью, подпёртой лучинками.
Маша не любила, когда Лиза приходила в девичью.
– Нехорошо барышне с прислугами сидеть. Тётенька обидятся.
Лицо у Маши отёкшее, обрюзгшее, уши оттянуты огромными гранатовыми серьгами, падающими почти до плеч.
– Какие у вас красивые серьги! – говорила Лиза, чтобы переменить неприятный разговор.
– Это мне покойный барин подарил.
Лиза смотрит на серьги с лёгким отвращением. «И как ей не страшно от покойника брать!» Ей немножко жутко.
– Скажите, Маша, это он вам ночью принёс?
Маша вдруг неприятно краснеет и начинает трясти головой.
– Ночью?
Швея Клавдия щёлкает ногтем по натянутой нитке и говорит, поджимая губы:
– Стыдно барышням пустяки болтать. Вот Марья Петровна пойдут и тётеньке пожалятся.
Лиза вся съёживается и отходит к последнему окошку, где живёт канарейка.
Канарейка живёт хорошо и проводит время весело. То клюнет конопляные семечки, то брызнет водой, то почешет носик о кусочек извести. Жизнь кипит.
«И чего они все на меня сердятся?» – думает Лиза, глядя на канарейку.
Будь она дома, она бы заплакала, а здесь нельзя.
Читать дальше
![Надежда Лохвицкая Рассказы для детей [сборник litres] обложка книги](/books/432557/nadezhda-lohvickaya-rasskazy-dlya-detej-sbornik-litr-cover.webp)



![Надежда Лохвицкая - Юмор начала XX века [сборник]](/books/180489/nadezhda-lohvickaya-yumor-nachala-xx-veka-sbornik-thumb.webp)


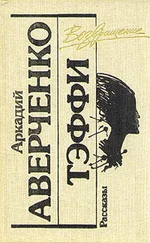
![Элвин Шварц - Страшные истории для рассказа в темноте [сборник litres]](/books/408569/elvin-shvarc-strashnye-istorii-dlya-rasskaza-v-temnot-thumb.webp)
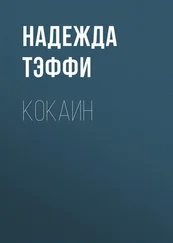
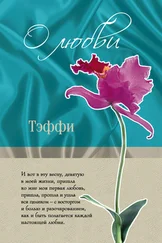
![Макс Фрай - Новая Дикая Охота. Рассказы для живых [сборник litres]](/books/437026/maks-fraj-novaya-dikaya-ohota-rasskazy-dlya-zhivyh-s-thumb.webp)