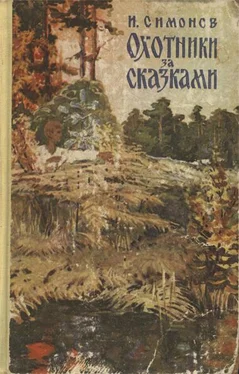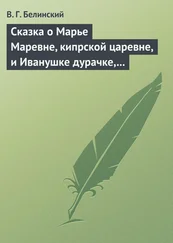Белоголовый Иванушка в тесный круг идет, лешим сказку— диво дивное — ведет. Такие чудеса лесной паренек знает, что лешие слушают — от восторга тают. Пока слушали — вее растаяли, никакого следа не оставили.
Родные братья — родная кровь, но у каждого руки и думы свои. Старший младшему поклон земной кладет, с собой ласковую Добринку зовет. Средний брат земной поклон ему кладет, тихо Гостинку в отцовский край зовет. Только Лехо молчал перед Ясинкой, когда руки друг другу подали.
А по ельнику синица звенит, воробей друзей счастливых веселит. Белобокая сорока старается, одним разом за три свадьбы кувыркается.
Попрощались — старший с Добринкой идет, средний Гостинку в отцовский край ведет, а Иванушка с верными птицами к старой матушке наведаться торопится.
В лесу, на поляне, там, где стояли, Лехо новый, сосновый дом построил. С ними мудрая сова, с ушами голова, на высоком чердаке поселилась.
Много лет с той поры прошло, сто морей по реке протекло. В детстве паренька Алешей звали, выровнялся — стали кликать Лехо, а теперь зовут его Эхо. Кто в лесу в недобрый час заплутается — каждому на голос отзывается. Позови — и тебе ответит. Вместе с верным своим охотником всюду ходит светлая Ясинка. Навсегда они подружились, навсегда в родном лесу остались.
В их костре зола перетлела, далеко сова улетела, от ветров избушка распалась, только сказка о них осталась.
— Так-то вот, други любезные! — другим голосом подчеркнул конец сказки дедушка. И, предупреждая долгие расспросы, положил конец разговорам, с головой укрывшись заплатанным чалым кафтаном.
Если бывают по-настоящему голубые вечера, то в памяти моей этой первый, увиденный из тесной лесной землянки, был самый голубой. Он голубой от леса, от неба, от тонкого месяца, от затаившейся тишины, от пахучего дымка угасающего костра. Сколько разных красок, земных и лунных, светлых и туманных, слилось, расплылось, перемешалось между собой, чтобы создать невесомое голубое, прорисовать в нем желтые и коричневые стволы сосен воздушно-сиреневым, мягко колеблющимся.
В землянке густо пахнет махорочным едким дымом, кислыми сырыми онучами, немножко — застоявшейся плесенью, чуть побольше — хвойной свежинкой. На жердяных нарах, присыпанных жесткой травой враструску, так спокойно и тихо, что можно быть совершенно уверенным — никто не спит. В ночь — за полночь, никогда не бывает в усталой артели такой обдуманной, такой старательной тишины. В сонном забытьи один Осипов Степан начнет перекатного храпака задавать — хоть на тройке по булыжнику, да с подпрыгом колесами дребезжи, все равно такого треска не получится. Другой Степан, подвалившись боком к напарнику, в носовую свистульку старается, на разные лады трели пускает. Вовка Дружков, с запинками, при каждом выходе словно бутылки с ядреным квасом откупоривает.
Заведенная с вечера, эта «музыка» умолкает только перед рассветом, когда снова подступает время надоедливые бахилы одевать, захолодевшую пилу в руки брать — и на делянку.
Потому и удивительна неожиданная тишина в нашем тесном земляном убежище. Видно, не только затаившихся молодых, но и хозяйственных пожилых потревожила, улыбнулась глазами далекого детства задумчивая сказка дедушки Дружкова. Не от нее ли пахнуло вдруг в сырой землянке домашним теплым уютом, прояснился сумеречный вечер, шевельнулось в открытом проходе заманчивое голубое? Оно ширится, надвигаясь из лесной тишины, просвечивает затуманенные кусты; расплывается по низкой земляной ступеньке, заглядывая в глубину. Тронулась текучей струей, заголубела островерхая Ленькина буденовка, прилаженная у стены на рогатку, просветлели лапти, бахилы, портянки и онучи, развешенные тут и там по сучкам и колышкам. Голубыми стали длинные ноги Степана Гуляева, до колен перевесившиеся через жердяной настил. Голая рука Леньки Зинцова, сбоку охватившая изголовье, истаивает в сером углу весенней ледышкой, подрагивает легонько беспокойными пальцами. Потертое, засаленное одеяло, шитое из разноцветных клинышков — и то в голубой ночи по-новому, по-нарядному запестрело.
Непривычно деревенскому жителю располагаться на ночь в земляной квартире без дверей. На еловой постели какая-то оторопь берет. И приятно в то же время лесорубом себя чувствовать, со стороны даже малого внимания не обращать, как осторожная ящерица в дедушкину голичку заползает.
На новом месте и придумали мы с Ленькой все по-новому: не кое-как под ватное одеяло забрались, а игральным валетиком устроились — головами в разные стороны легли. Шебаршит Ленька неторопливо, гладит жесткими пятками по моему боку, словно шершавым напильником работает. «Ничего, привыкну — пятки у Леньки теплые!»
Читать дальше