Я вскочила, чтобы сейчас же бежать к Игорю.
— Да погоди, погоди, далеко бежать придется.
— А где он?
— Вот это уж я у тебя хотел спросить. Пришла, видишь, телеграмма, что сбежал он с вашего эшелона. Ну, значит, я ее к делу подшил. Явится, думаю, тут я его, голубчика, сцапаю, запакую, проштемпелюю и наложенным платежом отправлю. Жду-пожду — нет его. А тут, понимаешь, озоровать стали. В сорок третьей квартире, эвакуированной, печать с дверей сорвали, вещички кое-какие пропали, обстановка там поврежденная оказалась. Ну, а тут подозрение вышло на парня одного. Да ты его знаешь… Помнишь, бомбу он на нашей крыше зажигательную потушил? Васька Жмырев. Сам-то он подмосковный, из отчаянных. Да повадился ночевать тут, в доме пятнадцать. Ну, стали мы его легонько щупать, а он говорит: «При чем, говорит, я тут? У вас, говорит, на чердаке подозрительные лица живут». — «Какие такие подозрительные лица?» — «А такие, говорит: числятся в эвакуации, а, между прочим, находятся тут». Сделали мы обход, и что же ты думаешь — застукали на чердаке Малинина капитана сынишку, этого самого Игоря!
— Игоря?.. Не может быть! — вырвалось у меня.
— Может быть, раз я говорю. Квартира-то Малинина запечатана. Он, верно, сунулся, деваться-то некуда, а он тут все ходы-выходы знает, ну, и поселился на чердаке. А его с того двора зенитчицы прикармливали. Пожалели девушки. Посочувствовали — тоже сверху на землю не сходят. Ну, и спускали ему на веревке то хлеба, понимаешь, то консервы какие…
— А где же он сейчас? Господи!..
— Ты погоди. Ну, привели мы его к нам в комендатуру, следовательно, разговариваем. Так-то, конечно, при нем ничего не нашли. Только свои вещички и были. Я зря тень на парня наводить не стану. Он мальчишка хотя срывной, но насчет плохого, озорства — ни-ни. Строгий. Зернышка чужого не возьмет. Тоже, понимаешь, Москву защищать приехал, вроде тебя. Ну, с ним-то у меня разговор покороче был. Я живенько созвонился с комендантом вокзала, просил его выправить билет. Как раз там один эшелон отходил. Поехал уже оформлять. Ну, а этого Игоря посадил тут у себя, поесть ему дал. И для всякой пожарной случайности на ключ запер. Прихожу обратно — только того Игоря и видели. Окно, понимаешь, открыто, и как он, галчонок, с такой верхотуры вылез, уму непостижимо! Удрал. Была мне через этот случай конфузия… Конечно, дела я так не оставил. Ищем. Везде я заявил насчет него. Пока сведений не поступало.
— А от отца его, с фронта, ничего не было?
— Нет, от него почти не имеется… Ну, иди, устраивайся. Жильца-то я к вам поставил на время. Военкомат просил, у них он служит. Жилец тихий, обстоятельный. По крайней мере, квартиру сбережет: лучше, что человек свой.
Невеселая вышла я от коменданта. Бедняга Игорь! Наверно, натерпелся мальчуган.
Но надо было подумать о себе. Я отправилась в райком комсомола.
Москва показалась мне пустоватой и днем. Было очень много военных, и совсем не видно было детей. На кинотеатре висела большая афиша: «Мужик сердитый». Картину, значит, опять пустили на экраны. Из витрины за проволочной решеткой глядела моя физиономия. Вот я, Устя, вместе с Расщепеем в роли Дениса Давыдова. Вот я одна. Приятно было видеть в военной, суровой Москве рядом с плакатами, требовательно призывавшими всех встать на защиту родной Москвы, афиши нашей картины.
В райкоме я застала много народу и встретила кое-кого из знакомых старшеклассников.
— Крупицына, ты откуда? Ты что, только сопровождала?
Это была счастливая мысль.
— Да, я уже вернулась, — сказала я. — Меня командировали обратно.
Но когда я оказалась в кабинете секретаря райкома, усталого, беспрерывно кашлявшего, красноглазого от бессонницы и так постаревшего, что с трудом узнала в нем нашего общего любимца Ваню Самохина, врать я не решилась. Тут лгать было нельзя, тут надо было говорить все по чести, по совести.
— Крупицына, — сказал мне Самохин, выслушав все, — нельзя же так, ей-богу! Нельзя в такое время выбирать, где тебе самой интереснее. Есть на свете такое понятие: дисциплина. Ну, что я тебе буду говорить! Ты культурная девушка, сама все отлично понимаешь. Но, видно, придется нам об этой простой истине напомнить тебе официально. И кое-что записать по нашей комсомольской линии… Да, да. Поговорим на бюро. А пока просто не знаю, что мне теперь с тобой делать. Вот тут у меня сейчас работает отборочная комиссия из Московского комитета. На серьезное дело людей отбирают. На очень серьезное. И там уж потом не спросят, где кому интересно быть.
Читать дальше
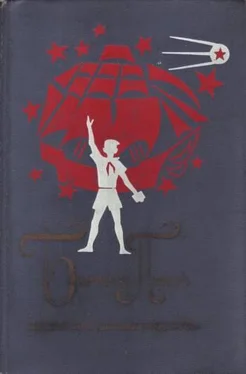







![Михаил Хохлов - Миротворец. Планета Земля – великое противостояние. Книга первая [SelfPub]](/books/419243/mihail-hohlov-mirotvorec-planeta-zemlya-velikoe-thumb.webp)

