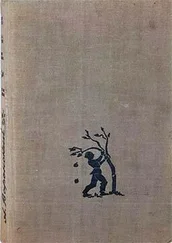Буфет живо распотрошили, и единственный на станции важный, толстопузый жандарм, привыкший выходить только к пассажирским и курьерским поездам, ничего не мог поделать. Появились пьяные. На перроне начались пляски с отчаянным уханьем и выкриками, загремели песни, завизжала гармонь. И опять завыли бабы, заплакали дети…
Никогда не забуду эту ночь, сухую, душную, с беззвучными зарницами-сполохами вдали, громыханье эшелонов, позывные трубачей, команду: «Садись! По вагонам!», запах конских стойл и сена, остро, незнакомо бьющий в нос из раскрытых дверей теплушек, рев множества солдатских глоток, орущих песни.
С удивлением обнаружил: некоторые иногородние, которых в хуторе не считали по бедности за людей, неожиданно обрядились в офицерскую форму с погонами прапорщиков. Их вид вызывал уважение: они готовились, уезжать, чтобы бить германцев.
Мы, ребятишки, сновали при свете станционных керосиновых фонарей в шумной, распевающей и плачущей толпе и тоже хотели, чтобы поскорее разбили Германию. Мы забывали о горе матерей и отцов и были охвачены каким-то новым чувством. Пожалуй, из всей пляшущей с горя и; орущей толпы самыми искренними и горячими патриотами были мы, ребятишки. Каждый новый эшелон мы встречали криками «ура» и победным свистом.
Подошел эшелон с «охотниками» — добровольцами. На; вагонах мелькали верноподданнические лозунги. Из дверей выглядывали сытые, лоснящиеся лица. «Охотники» дико и безобразно кричали. Они, казалось, готовы были выскочить, из вагонов, наброситься на плачущих женщин и обнимающих их, обреченно понуривших головы мужчин. Вся эта орава, по-видимому, очень сердилась на то, что на станции царят такое уныние и отчаяние.
То и дело раздавались выкрики:
— Чего носы повесили? Аль не хотите защищать Россию?
Эшелон этот нам очень не понравился, и, когда он ушел, мы облегченно вздохнули. И вдруг Афоня Шилкин предложил:
— Поедем и мы добровольцами. Отличимся на войне — «георгия» получим.
Ваня Рогов смерил его презрительным взглядом.
— Дурень! — коротко кинул он, сплюнул и отвернулся. И лишь немного погодя сказал мне: — У Афоньки батька живой и есть кому кормить семью, а моего убили еще в японскую… Вот и посуди, хочется мне воевать? Уж лучше плотничать у деда…
Наконец на рассвете подошел эшелон, которого ждали. Тут вой и кутерьма поднялись невообразимые. Пронзительно и визгливо пела труба, сзывая мобилизованных в вагоны. Женщины цеплялись за мужей, сыновей и братьев, дети визжали. Некоторые жены влезали в вагоны, но их выталкивали оттуда, и, упав, они, бились в рыданиях на перроне, рвали на себе волосы…
Мой патриотический запал выветрился в то же утро, как дым. Человеческое горе вытеснило все чувства, заслонило собой розовеющее перед восходом небо, весь теплый и по-утреннему освеженный, сияющий восходящим солнцем мир… Я будто одеревенел, взирая на перекатывающееся но перрону обжигающими волнами человеческое многоликое, еще не слыханное и не виданное мной в таком массовом проявлении человеческое горе…
Эшелон ушел, и на перроне остались только плачущие бабы и дети. Кое-где на платформе, от которой только что отошел поезд, ало, как свежие лужи крови, пятнились красные оброненные бабьи косынки…
А через две недели, когда мужское население хутора поубавилось больше чем на одну треть, среди бела дня на солнце вдруг начала надвигаться тень. Сначала все думали, что нашла туча, но потом разобрались, в чем дело, нашлись понимающие люди, посоветовали посмотреть на солнце в закопченные стекла.
Множество хуторян и даже бабы, приставив к глазам закопченные стекла, глазели на величавое, до этого такое знойное, ослепительное светило. Я тоже смотрел в маленький темный осколок. Черный круг быстро надвигался на солнце…
И вдруг бабы побросали стекла и панически завыли:
— Ой, бабоньки, это же не к добру! Всех наших мужиков перебьют на фронте. А потом начнется светопреставление.
Черный круг надвигался зловеще, неотвратимо, солнце меркло. По хутору разлились странные сумерки. Беспокойно, с подвыванием, залаяли собаки, закукарекали, как на ранней зорьке, петухи. И по хутору вновь поплыли неутешные, скорбные причитания и вопли. Они не утихали и после, когда черный круг сполз с солнца и день вновь засиял торжествующе и обновленно…
Вскоре отец привез из степи пасеку. Он и мать о чем-то всю ночь шептались, а наутро отец ушел. Он вернулся лишь на третий день и сказал, что поступил работать на железную дорогу, в песчаный карьер грузить песок в вагоны… Сделал он это для того, чтобы избежать мобилизации: рабочих и служащих с железной дороги на войну будто бы не брали.
Читать дальше