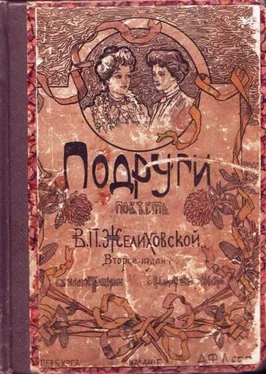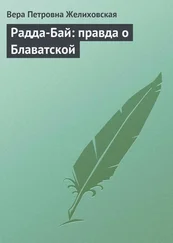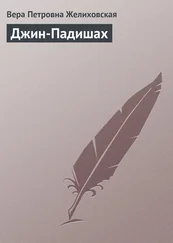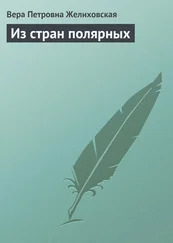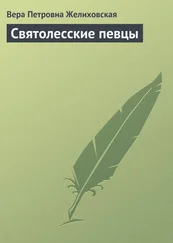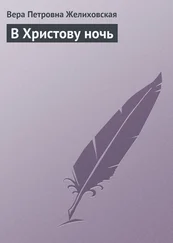Истину своих слов он подтвердил тем, что весь вечер провел вместе с гостями своей дочери.
Но такие удовольствия случались раз, два в неделю, не больше. Остальное время было посвящено занятиям. Кроме Юрьиных, нашелся еще один урок, который Надя с радостью приняла. Да и сама она, дома, училась прилежно английскому языку и брала уроки музыки. Музыка была любимым предметом её, но до сих пор не было временя заниматься ею серьезно, да к тому же и не хотелось ей играть в гостиной, на виду у всех, мешая гостям своей мачехи или ей самой. Теперь, на просторе, она много играла каждый день, a три раза в неделю приезжал к ней лучший учитель в городе. Игра её совершенствовалась заметно, и она сама так полюбила музыку, что с горестью помышляла о том, что скоро лишится возможности свободно ею заниматься. Раз, беседуя с отцом, она высказала ему свою печаль. Он сначала удивлялся, но, подумав, согласился с ней, что ей неудобно играть на общем рояле, на котором целыми днями то учились, то просто бренчали Поля, Риада и Клавдия, не говоря уж о самой Софье Никандровне и её гостях. Он ничего не отвечал дочери, но на другой день предложил ей прокатиться с ним, a когда они сели в коляску, он спросил ее:
— Тебе все равно, если мой подарок опередит на несколько недель день твоего рождения?
— Совершенно все равно. Но мне, право, ничего не нужно…
— Ты сама своих нужд не знаешь, — улыбаясь, возразил отец. — Тебе необходимо маленькое пианино, которое ты поставишь в своей комнате, чтоб не пропали даром твои теперешние занятия музыкой.
И пианино, при помощи услужливого учителя музыки, было в тот же день выбрано и заняло почетное место в хорошенькой комнате, приводившей в такой восторг маленькую Фиму.
Справляя, за несколько дней до возвращения всей семьи, новоселье своего дорогого пианино, в обществе своих приятельниц, Надежда Николаевна не ведала, что этому подарку отца, доставившему ей столько радости, суждено еще было усладить её бедной маленькой сестре много печальных часов, — последних часов её недолгой жизни…
В письмах своих к мужу, Софья Никандровна никогда не распространялась о своей деревенской жизни, ограничиваясь общими фразами да множеством поручений. Дети никогда не писали отцу, a тем более нелюбимой сестре. Раз только Клава сделала в письме матери кривую приписку, в которой просила «милую Надю» попросить бабушку прислать ей вяземских миндальных коврижек, без которых ей очень скучно. Вот и все. В предпоследнем письме мачехи Надежда Николаевна прочла, однако, что Серафиме деревенский воздух совсем не принес пользы, что она все болеет, исхудала так, что от слабости с трудом передвигает ноги и сделалась невозможно капризна.
— Бедная Фимочка! — вздохнув, проговорила Надя. — Видно, ей в самом деле лучше было бы остаться с нами.
За несколько дней до возвращения Молоховых, приехала часть прислуги и ключница Анфиса, которая я передала барышне незапечатанную четвертушечку бумаги, на которой она с трудом разобрала начертанные карандашом крупные, полуистертые буквы Фимочкиного послания.
«Как я рада, что скоро тебя увижу! — писала она. — Я больна. Теперь уже совсем больна. Хорошо, если приеду, a если нет, — прощай Надечка! Я тебя очень люблю, очень! Больше всех. Мне без тебя было скучно… Я рада уехать отсюда к тебе, рада буду посидеть с тобой опять в твоей комнате. Хоть бы скорей! Твоя сестра Фима».
Слезы выступили на глаза Нади, когда она разобрала разрозненные строки, которые здесь приведены в порядок и исправлены. Она горько упрекнула себя в том, что сама ранее не вспомнила, что Фимочка уже знает писаные буквы, и не догадалась написать ей. Она призвала Анфису и со слезами слушала её рассказы о болезни меньшой сестры, о том, как она, у всех на глазах, ежедневно слабела и таяла, «что Божья свечечка пред иконой».
— Уж мы с нянюшкой их всячески от сглазу и вспрыскивали, и отчитывали, и по зорькам росой умывали — нет, ничто не помогает! — рассказывала ключница с видом убеждения в силе таких лекарств. — Уж, видно не жилица она на свете! Так, верно, ей на роду написано…
— Как?! Неужели ей в самом деле так плохо? — в ужасе вскричала Надежда Николаевна, и сердце её сжалось до боли от горя и раскаяния, что она, среди своей деловой, впервые самостоятельной жизни, почти забыла о бедненькой больной, не любимой в семье сестре своей. — Так зачем же ее не лечили? — продолжала она расспрашивать. — Разве доктора не приезжали к ней?..
— И, барышня, какие там доктора!.. Был раз доктор, — у барыни зубы болели, так посылали за ним лошадей в уездный город, — да что в нем толку?.. Сама барыня сказывала: «Это коновал какой-то! Куда ему людей лечить?..» Серафиму Николаевну поглядел и говорит: «Желудок, говорит, у неё засорен, касторки надо дать — и как рукой снимет». A чего же там засорен, когда у них во суткам маковой росинки во рту не бывает? Так сболтнул, чтоб только сказать что-нибудь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу