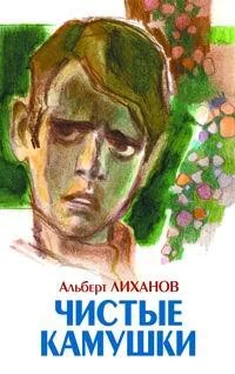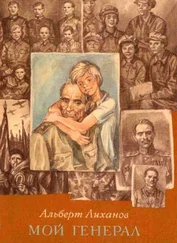В котловане работали землекопы. Михаська посмотрел на них и даже подпрыгнул от неожиданности. Там был отец. Спина его напрягалась, когда он откидывал лопатой землю, сквозь мокрую майку проступали мускулы. Они так и катались, будто кто гонял шары у отца под кожей.
– Смотри, – сказал Михаська Сашке, – узнаешь?
Кепка у отца была назад козырьком; иногда он останавливался и вытирал рукой пот со лба.
– Папа! – крикнул Михаська.
Отец обернулся и помахал ему рукой.
– Мы тоже тут работаем! – снова крикнул Михаська.
– Я за тобой зайду! Жди! – ответил отец.
Михаське показалось, что отец работает лучше всех, быстрее всех. Он любовался, как играют у отца крепкие мышцы.
Когда они пошли домой, Михаська подумал, что ведь это здорово: он и отец – они вместе строили завод!
Может быть, когда Михаська вырастет, он будет работать на этом заводе, строить тракторы. Хорошо бы и отец тоже туда перешел!
Они стали бы ходить с работы вместе, неторопливо, устало шагая по мостовой, а мама ждала бы их дома. Хлопотала бы у печки, чтобы накормить их, рабочих людей.
Михаська взял отца за руку.
– Здорово! Правда, папка? – сказал он.
– Что – здорово? – спросил равнодушно отец.
– Завод строили! – улыбаясь, ответил Михаська. – И мы с тобой!
Отец был какой-то недовольный, хмурый.
– А ну их! – махнул он рукой. – Время только потерял.
Михаська будто споткнулся, будто его окатили холодной водой. Весь день он пилил эти кругляши, до зеленых кругов в глазах, старался, чтоб не остановились машины, газогенераторки… Что же, значит, все это зря?
Ведь и Сашка старался, пилил, и все ребята, и Иван Алексеевич вон как махал топором. А шоферы на газогенераторках! А люди, которые копали котлован! Да и сам отец!
Что же он, притворялся? Старался, работал, а сам ругает тех, кто его сюда послал! Что же, ему ведра дороже?..
Михаська выпустил отцовскую руку.
Михаська и сам не понимал, что с ним сделалось. Спроси его, ни в жизнь бы не объяснил. Просто раньше для него паянье было удовольствием почище кино. Окунешь паяльник в мелкодробленую канифоль, прикоснешься к оловянному слитку, а от него белые горошины катятся – жидкое олово.
А сейчас одна гарь, вонь. И все эти примусы, керогазы, ведра, тазы опротивели. Лежат в углу, сколько места занимают – прямо как на свалке. Зацепить бы их краном – да в переплавку…
Так оно и случилось.
Однажды сидели они с отцом, скребли, стучали, дымили паяльником, и вдруг пришел человек. Толстый, рыхлый, и лицо такое, будто он больной. Да так, наверное, и было. Не больных таких толстых не бывает.
Толстяк поздоровался вежливо, потрогал зачем-то толстый нос и сказал отцу:
– Я фининспектор. Говорят, вы тут частную практику открыли. Похвально, похвально! Только почему налог с дохода не платите?
Отец побледнел, встал и ушел за шкаф. Вышел в гимнастерке, с медалями, с гвардейским знаком. Поправил ремень.
– Видите? – спросил он толстяка. – Я войну прошел. Ранен. Что же, я теперь жить не могу, как хочу?
Мама пришла из коридора, прижалась к косяку. Испуганно смотрела то на отца, то на инспектора.
– А вы мне тут налоги! – крикнул отец.
– Да не кричите, – сказал толстяк, снова трогая свой нос. Он говорил спокойно, будто отец и не кричал на него, будто ничего и не случилось. – Я же вижу, что вы не жулик. Состояния на этом, – он кивнул на ведра и тазы, – не заработаешь.
Отец сел. Фининспектор говорил с ним вежливо, не злился, даже как будто сочувствовал отцу.
– Но закон есть закон. Если вы получаете доход, надо платить налог. Понимаете? – спросил он и добавил, слегка раздосадованный: – И гимнастерка тут ваша ни при чем, поверьте! Я сам воевал, однако наградами потрясать в таком случае не решусь. Так что я вас предупредил. В следующий раз составлю акт.
Толстяк ушел, тяжело дыша.
Отец ходил по комнате из угла в угол. Михаська ни разу не поднял на него глаза.
Давно ли отец рассказывал, как ходил он в разведку, и Михаська глядел ему прямо в рот, и было здорово, что у него такой удивительный отец. Разведчик – ведь это значит самый, самый смелый, а тут…
Когда отец вышел вдруг из-за занавески к фининспектору в форме, Михаська даже не понял сразу, к чему это он надел гимнастерку с медалями. А вон как вышло… Просто отец испугался этого человека. Гимнастерку надел, будто броню какую. Будто можно гимнастеркой от налогов этих защититься…
Мать все так же стояла у косяка и молчала. Почему она молчит? Ведь она понимает! Все понимает. Или боится за эту мастерскую? За эти ведра, тазы? Боится, что Михаська снова будет бегать и хуже учиться, а не сидеть с отцом и паять ведра? Ну почему она молчит?
Читать дальше