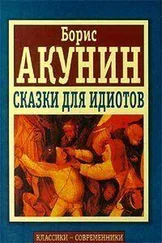Борис Кушнер - Столицы Запада
Здесь есть возможность читать онлайн «Борис Кушнер - Столицы Запада» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: ОГИЗ, Молодая гвардия, 1931, Жанр: Детская проза, Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Столицы Запада
- Автор:
- Издательство:ОГИЗ, Молодая гвардия, 1931
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Столицы Запада: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Столицы Запада»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Столицы Запада — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Столицы Запада», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Аккуратные и сдержанные берлинские шоферы не выбрасывают руки на поворотах, как это принято у нас. Каждый автомобиль в Берлине снабжен небольшим автоматическим семафорчиком. Семафорчик поднимается и опускается, как-будто машет легким крылышком. Ночью, поднимаясь на поворотах, семафорчик зажигает красный огонек. Огоньки ракетами вспыхивают и летят на закруглениях по спирали. Одних автомобильных огней в Берлине достаточно было бы, чтобы освещать улицы.
Во второй половине 1923 года, после того как французы заняли своими войсками сердце Германии — Рурскую область, в которой сосредоточены каменноугольная, металлургическая и химическая промышленность, экономическое положение страны стало катастрофическим. Первый европейский миллиардер американской складки — Гуго Стиннес, разбогатевший на военной спекуляции, забрал в свои руки управление большинством немецких предприятий, а вместе и фактическое управление страной. Промышленность и торговля пришли в состояние застоя. Деньги неслыханно упали в цене. Миллион марок стал мелкой разменной монетой, счет шел на миллиарды и даже на биллионы. Фактическая заработная плата опустилась ниже прожиточного минимума, т. е. германский рабочий получал за свой труд меньше того, что нужно для поддержания жизни и для восстановления израсходованных на работе сил. Германский пролетариат, в буквальном смысле слова, должен был своею кровью и своею жизнью оплатить военную оккупацию Франции и "мирное" завоевание Германии Стиннесом.
К осени положение стало настолько напряженным, что рабочий класс Германии, несмотря на всю свою выдержку, выступил против буржуазии, хотя момент для такого выступления был в общем мало благоприятен и шансов на революционный успех было не много. В Кастрине, Гамбурге и Берлине произошли кровавые уличные бои. Они кончились поражением немецких рабочих и разгромом рабочих организаций. Но вместе с тем они показали изумительную стойкость германских пролетариев, их выдержку и отвагу в классовых боях. Осень 1923 года навсегда останется блестящей, хотя и печальной страницей в истории борьбы рабочего класса против буржуазии.
В августе месяце, накануне революционных выступлений, общее собрание берлинских фабзавкомов почти единогласно голосовало за объявление всеобщей забастовки. Забастовка не вышла всеобщей. Ее сорвали социал-демократы, не упустившие и на этот раз случая в самый грозный и в самый тяжелый для рабочего класса момент продать его интересы буржуазии. Однако многие фабрики и городские предприятия все же прекратили работу. На железнодорожных линиях, примыкающих к берлинскому узлу, рабочие волынили и вели систематический саботаж. Поезда приходили и уходили вне всяких расписаний. Буржуазный Берлин сильно лихорадило, а берлинские рабочие — желтолицые, высохшие от систематической голодовки, по-особому сверкали глазами и говорили необычайные слова. Возвращаясь домой с работы на своих велосипедах, они отпускали на центральных улицах шаркающей по панели разодетой толпе такие обещания, что тонконогие женщины в мехах шарахались в стороны, а тучные спекулянты спешили домой и торопясь принимали срочные меры к отъезду в какую-нибудь соседнюю, менее подверженную революционным волнениям страну.
К вечеру забастовала гигантская электрическая центральная станция в Моабите. Весь шикарный Запад до самого неба ушел в чернила осенней ночи. Дома стояли безглазые. Подъезды кафе, кинотеатров и ресторанов, лишенные: электрических слов и восклицаний, погрузились в глухое безмолвие. В гостиницах гостям выдавали вместе с ключом от номера парафиновую свечку в подсвечнике и коробку спичек. Вокзалы?.. Никто не мог сказать с достоверностью, отходят ли с них поезда или нет. Железнодорожные виадуки— мосты, по которым рельсовый путь пролегает среди городских домов, — пересекая площади и улицы, продолжали еще грохотать, но в черной мгле нельзя было различить, шум ли это от движения поездов или отдаленный гул, нарастающих революционных событий. Сплошными рядами пятиэтажные дома, как черные караваны каменных верблюдов, нервно шагая, ушли в беспредельное пространство пустынь. Безглазые, бесформенные, черные улицы умерли. И лишь одни автомобильные фары остались жить на этом свете.
В шикарной аллее улицы Курфюрстендамм забастовочная ночь чудила, как и везде. Раздвинула, разогнала неизвестно куда шпалеры домов, стволы деревьев вытянула вверх так, что в черноте нельзя было рассчитать, чем они кончаются. Уничтожила все. Только один асфальт не поддался. Блестел лощеный, белый от света, как лунный диск, как река расплавленного металла. Он шуршал, трепетал и искрился под тысячами автомобильных фар. Фары есть фары. Особого пристрастия к асфальту у них нет. С одинаковой старательностью освещают они все, что попадает в струю света — каменный край тротуаров и узорные цоколи фонарных столбов, стволы деревьев, чугунные столбики и гнутые прутья, ограждающие стриженые газоны. Но сильней и напряженней всего освещали фары человеческие ноги. В этот вечер они были такие нервные, торопливые и так неуверенно мелькали между развевавшимися полами одежды. На углах, на перекрестках не различимы были усиленные полицейские патрули. В освещенной полосе видна была лишь безукоризненно начищенная форменная полицейская обувь да тяжелые деревянные кобуры маузеров, понуро висевшие на зеленых самоуверенных полицейских задах. В эту ночь прохожие не останавливали друг друга, так как в густом мраке нельзя было отличить своего от чужого. Только одни автомобили, снабженные светящимися глазами, как глубоководные океанские чудовища, чувствовали себя превосходно и узнавали в лицо своих знакомых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Столицы Запада»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Столицы Запада» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Столицы Запада» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.