— Ну, Чучело-Чумичело, подавай-ка копыто!
Звали его Демьян Емельяныч, но вся Солнечная называла его Барабан Барабаныч. Он был замечательный, знаменитый хирург. Тысячи «старушенций» и «Шендер-мендеров» вылечил он на своем долгом веку.
В санатории был стол на колесиках. Он назывался «трамваем». На нем перевозили ребят в перевязочную, и ребята, когда их везли ни «трамвае», считали своим долгом балагурить, смеяться, выкрикивать забавные стишки, — словом, всячески показывать, что они молодцы и что перевязочная им нипочем. Дома, окруженный родными, Сережа визжал, как зарезанный, от малейшего прикосновения врача к его больному колену, а здесь, на глазах у товарищей, он, не сморгнув, выносил самые мучительные пункции (прим. — уколы особой иглой).
Но лучше Цыбули, лучше Пани Мурышкиной, лучше всех воробьев и мастирок, даже лучше хвостатого дерева был на Солнечной Израиль Мойсеич. Сережа пламенно влюбился в него.
Войдет незаметно, застенчиво, как будто украдкой, присядет на тумбочку возле чьей-нибудь койки и начнет своим тихим болезненным голосом, вяло и неторопливо рассказывать, что творится сейчас на советской земле, и понемногу вся Солнечная проваливается в какую-то яму, и на том месте, где только что были кровати, вскидываются к небу подъемные краны и вгрызаются в промёрзлый песок экскаваторы, и бегут и бегут по конвейерам бесконечные фордзоны, грузовики и станки, и миллионы людей, заполняя собою все море, от горизонта до берега, быстро-быстро, совсем как в кино, машут топорами, молотками, кирками, громоздя десятки Днепростроев, прокапывают русла новых рек, городят в пустынях города, и все это называется великая стройка. И не было такого хромоножки, такого горбуна, паралитика, который, слушая Израиль Мойсеича, не рвался бы и сам в эту стройку, не хотел бы внести в нее ну хоть кирпичик, хоть винтик. Чтобы скорее, не послезавтра, а завтра наступило всесветное счастье.
Послушали бы вы, с какой нежностью произносит Израиль Мойсеич слово «шарикоподшипники». Принес целую горсть этих шариков и так любовно перебирал их у себя на ладони, так ласково гладил их своими бескровными пальцами, словно всю жизнь только и ждал этой радости.
Года три или четыре назад он проработал всю зиму в бригаде Сталинградского тракторного (под снежными бурями, на жесточайшем морозе) и достиг там невиданных темпов, но в конце концов выбился из сил, заболел, и его прислали оттуда сюда, к теплому морю, лечиться.
Солнечные очень жалели его: весь какой-то всклокоченный, узкогрудый, хилый, он часто задыхался и кашлял. Но он не замечал ни кашля, ни колотья в груди, когда живописал перед ними свои картины Великих работ. И Кузбасс и Свирьстрой, И Москанал, и Волго-Дон, и Магнитогорск, и Челябинск были для него не за тысячу километров, а вот здесь пред глазами; он не то, чтобы думал о них, он их видел. И солнечные вместе с ним забывали о здешнем и как бы переселялись в ту жизнь, которую он изображал перед ними, и жарко верили, что через год, через два все они, несмотря ни на что, станут боевыми участниками этой творческой жизни, и весело смотрели вперед, и в них не было той злобной угрюмости, которая в прежнее время отличала тяжелых больных. Кажется, они сразу заболели бы вдвое, если бы у них отнять эту веру.
— Вы не только учите, вы лечите их, — сказал как-то Израиль Мойсеичу доктор Барабан Барабаныч. — Вы лечите их этими… подшипниками. Неплохие пилюли, оказывается.
И хохотнул животом.
Наслушавшись Израиль Мойсеича, ребята приготовили к первому мая такие энергичные лозунги:
МЫ ТРЕБУЕМ
чтобы нам дали возможность
ДРАТЬСЯ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
наравне со здоровыми!
МЫ КЛЯНЕМСЯ
доказать на деле, что мы
не хуже здоровых сумеем
СТРОИТЬ СОЦИАЛИЗМ!
И вот понемногу всю Солнечную обуяла мечта: хорошо бы здесь же, у теплого моря, в саду, под открытым небом, на воздухе, устроить особую фабрику-школу — специально для увечных ребят, где они обучались бы всяческой технике, не прекращая лечения и приспособляясь, под наблюдением врачей, именно к тем производствам, которые им более сподручны.
— Давно пора! — грохотал Барабан Барабаныч. — Без этого все наше лечение насмарку. Вылечишь, поставишь их на ноги, а потом прощайте, адью! Выйдет эдакий из наших ворот, ни к какому делу не прилажен, без ремесла, без профессии, набросится на любую работу, на первую, какая ему попадется, а эта работа ему не под силу, и, глядишь, скувырнулся опять. Обуза и для нас, и для Собеса. Нет, мы обязаны тут же, на месте, изготовлять из наших больных — мастеров и работников, и не каких-нибудь, не третьего сорта, а первоклассных. Да! Да!
Читать дальше
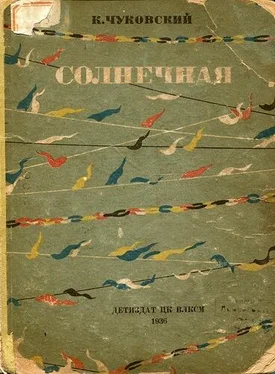
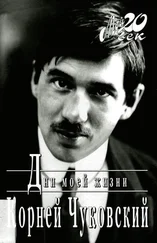
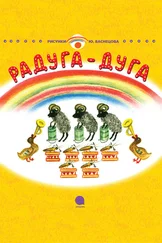
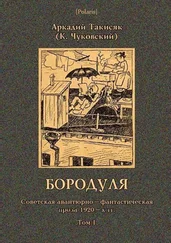


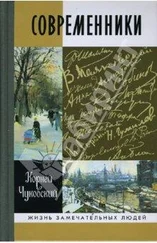





![Корней Чуковский - Доктор Айболит [Повесть-сказка]](/books/420257/kornej-chukovskij-doktor-ajbolit-povest-skazka-thumb.webp)