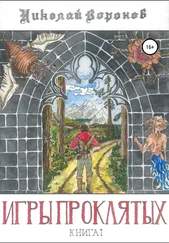Держать голубей так, как держал их я, было, по выражению бабушки, начётисто . Пока я ловил и продавал чужаков, пока с помощью Страшного и Цыганки выигрывал, дичь и деньги, мне было выгодно иметь голубятню. Прибыль, которую получал, я тратил на пшеницу и коноплю. Но стоило мне отказаться от ловли чужаков и от голубиных игр, как я почувствовал, что расходы на корм — дело нешуточное.
Голуби — жоркие птицы, первые чревоугодники среди них — жирнюги, ленивцы, сладострастники, сизари, засидевшиеся. Однако и среди голубей встречаются малоежки. Тут особняком летуны: почтарь, турман, чистяк, оренбуржец — лишь он один может взлетать и опускаться по прямой, как жаворонок, — а также голуби, озабоченные своей красотой: дутыши, трубачи да ещё те, кто чистоцветной масти и одарен артистической статью — пульсирует шейкой, хохочет, принимает декоративные позы.
Хотя Страшной с Цыганкой и Цыганенок с Письменной быстро наклевывались, забота о корме становилась для меня с каждой новой военной неделей все более сложной, даже трудновыполнимой. Денег, выдаваемых матерью на буфет, — я совсем не расходовал их на школьные завтраки, — не стало хватать на покупку пшеницы; коноплю за ее кусачую цену я ещё в июне исключил из голубиного меню. Пришлось покупать зерновую дроблёнку, затем охвостье, после того — смесь проса с овсом, а потом — только овес. А цены всё росли. И основным кормом для голубей стал хлеб нашей семьи, который мы получали по карточкам. Коль голуби были мои, я старался есть поменьше, чтобы в основном на корм им шла моя пайка. С хлеба, как и с овса, у голубей пучило зобы, да как-то всё на сторону, и они маялись, потягиваясь вверх, словно что-то глотали и никак не могли проглотить. Петька Крючин, жалея Страшного и Цыганёнка, иногда приносил карман пшеницы или ржи и вытряхивал зерно перед ними, а голубок отгонял: он считал, что они гораздо живучей самцов и спокойно выдюжат на дрянных кормах. Когда на конный двор привозили жмых, то Петька приглашал меня на разгрузку; за помощь старший конюх выдавал мне целую плиту жмыха, и тогда на некоторое время у нас в семье и у голубей наступал праздник. Для себя мы калили жмых на чугунной плите, а для них дробили в медной ступке.
Банан За Ухом, узнав через Мирхайдара о моих затруднениях, пришел ко мне. Голуби клевали овес, и он грустно посетовал: «Экий плевел приходится есть такой прекрасной дичи!» — и выразил желание их купить. Банан За Ухом работал на мельничном комбинате. Уж он-то будет кормить их отборной пшеничкой! Я недолюбливал его, а здесь вдруг он мне понравился. Наверно, тем, что с восторгом смотрел на моих голубей, а может, просто стало жаль, что на щеке у него багровое родимое пятно, а за ухом нарост, похожий на маленькую картошину. Походит ли этот нарост на банан, я не мог судить: не знал, что это за плод и какого он вида.
Он сказал, что берет обе пары оптом за полтысячи. А я сказал, что скощу ему сто рублей, если он поклянется не обрывать никого из голубей. Он поклялся, выговорив для себя дополнительное условие: после первого прилёта я отдаю ему Страшного и Цыганенка.
Через день я съездил к Банану За Ухом и возвратился чуть не рыдая: он оборвал крылья Цыганёнку, а Страшного и Цыганку, не мечтая их удержать, перепродал голубятнику со станции Карталы, находившейся километрах в ста от города. У меня была тайная надежда, что все мои голуби прилетят. А если так случится, что Банан За Ухом удержит их, то я смогу к нему приезжать, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Страшного с Цыганкой и Цыганёнка с Письменной. Теперь я не увижу своих старичков. Пути на станцию Карталы у меня нет и наверняка не будет. А прийти оттуда они не сумеют: такая даль, да и зима вот-вот наступит.
Уроки я учил, устроившись со всеми удобствами: подо мной край сундука, придвинутого к стене, под ногами перекладина стола, под локтями сам стол, упирающийся мне в грудь боковиной столешницы. Чуть скосил глаза — видишь, что делается перед хозяйственными службами, на крышах, в том числе на Мирхайдаровом бараке, на металлургическом заводе и в небе над ним и над бараками. А чтобы увидеть своё лицо, нужно повернуться и достать подбородком до ключицы. На деревянном угольнике, накрытом кружевом, связанным мамой из ниток десятого номера, стоит зеркало: в него и глядись досыта на свои выпуклые глаза (за них меня дразнят Глазки-Коляски), на косую челку, на разнокалиберные уши. В зеркале я вижу отражение розового целлулоидного китайского веера и раскрашенной фотокарточки, где мы с мамой прижались друг к другу плечами и где между её дисковидным беретом и моим пионерским галстуком есть красный перезвук — оба затушеваны фуксином. Бабушка терпеть не может, когда я «выставляюсь в зеркале». Она думает, что я из-за этого с ошибками выполняю задание по письму . Раз я пишу, все это для бабушки — «по письму».
Читать дальше
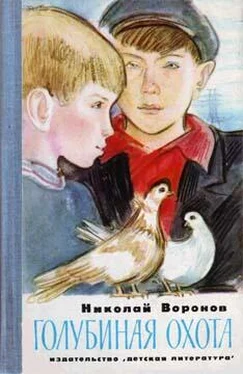





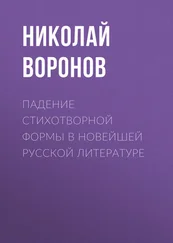



![Радагор Воронов - Большая охота [СИ]](/books/393854/radagor-voronov-bolshaya-ohota-si-thumb.webp)