— Будешь у нас красавцем, — услышал я его странный голос.
Мне вдруг стало страшно и тоскливо. Только не Петровича страшно… А чего, я и сам не знал.
Он достал из ящика какую-то блестящую улитку с трубой, провод от неё вставил куда-то за зеркало, улитка зажужжала, он поднёс её к моей голове, и я почувствовал, как сильно она дует теплом.
— Это фен, — сказал он. — Будем сушиться.
Он долго сушил меня и всё молчал. Потом выключил улитку, достал коробочку с пудрой и попудрил мне шею. Я даже покраснел.
— Ладно… молчи, — сказал он и стал меня причёсывать. Он причёсывал меня долго и аккуратно, после взял со стола одеколон с кишкой и грушей и стал лить одеколон мне на голову.
— Петрович, — заговорил я, — зачем же… у меня же…
Но он ничего не сказал. Я поглядел в зеркало и увидел, что он не смотрит на меня, а сам всё нажимает и нажимает на грушу, а одеколон всё льётся и льётся, вот уже и за ворот мне полился и на лицо и всё льётся и льётся…
Петрович вдруг быстро поставил на стол одеколон, почти пустую бутылку, и стал быстро-быстро меня причёсывать: раз-два, раз-два, раз-два!
— Всё. Всё готово. Теперь уже всё, — говорил он. — Всё. Не вздумай платить. — Потом вдруг встал между мной и зеркалом и поглядел на меня. А я на него.
— Всё, — сказал он. — Полный порядок. Ай да красавец! А я уезжаю. Прощай. Может, и не увидимся.
— Куда? — спросил я. — Куда же ты уезжаешь?! Надолго? Навсегда?
— Да, — сказал он. — В Хабаровск. Жене там дают квартиру. Она будет самый главный инженер. Всё. Прощай. Иди, парень. Следующий! — крикнул он, поднял меня с кресла и подтолкнул к выходу.
Я оделся и вышел на улицу.
Я стоял перед парикмахерской, держа в руках шапку, и не уходил. Потом он сам вышел, в своём белом халате.

— Иди, — сказал он.
— Иду, — сказал я. — Ладно.
— Иди-иди. Ну, чего же ты стоишь?!
— Иду, — сказал я, — уже иду.
Он повернулся, и дверь за ним закрылась. Я пошёл домой.
Я шёл мимо «Всё для малышей» и «Канцтоваров».
Мимо магазина «Синтетика» и мимо бани.
Мимо детсада № 66.
Мимо «Пышек». Очень вкусные пышки.
Потом постоял немного на углу Лётной улицы.
Потом возле булочной-кондитерской.
«Чик-чик-чик, — прошептал я, закрыв глаза. — Чик-чик-чик. Лети, мой корабль. А вот и мой дом. Чик-чик-чик».
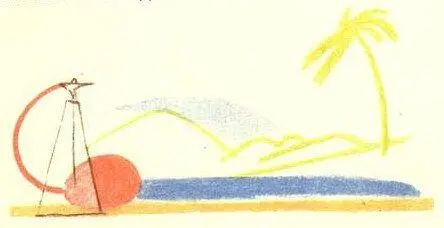

Был, знаете ли, один такой случай.
В нашем городе, в Ленинграде.
Можно даже сказать… в моём районе.
В школе, где я учусь.
На третьем этаже.
Даже в моём классе, если уж вам так хочется знать.
Между прочим, со мной.
Хотя, по правде говоря, я здесь ни при чём, не виноват, вот какое дело. Это, я думаю, с самого начала ясно.
Всё произошло на уроке рисования.
Мы всегда на этом уроке тюленя рисовали, или белого медведя. Срисовывали с картинки. Мне это здорово надоело. Честно. Я так об этом и сказал нашей новой учительнице.
Она сразу согласилась что-нибудь другое рисовать. Молодая, а понимает.
— Не тюленя! Не медведя! — закричали все.
— А что? — спросила она. — Что именно?
— А именно вот что! — крикнул я. — Про что мечтаем, то и нарисуем.
И она опять согласилась. Я же вам говорю, что она совершенно исключительная учительница.
Сначала я нарисовал ракету и себя в ней. Но у неё куда-то хвост загнулся, и я решил вернуться на землю. В общем, слетал.
Потом я нарисовал себя с новой хоккейной клюшкой.
Потом килограмм винограду.
Потом ещё полкило.
Потом вспомнил про лето и нарисовал лошадь, себя и Тимку.
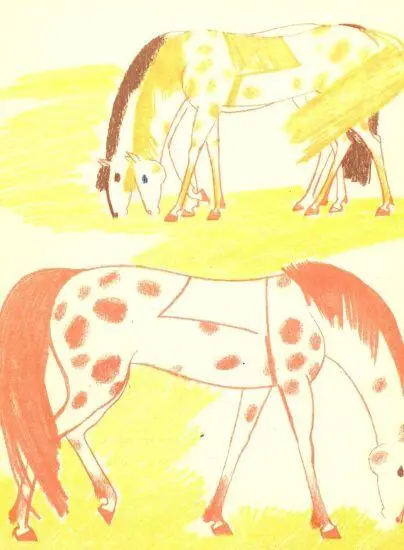
Потом я нарисовал, будто я говорю, и сказал Тимке:
— Отойди от моей лошади!
— Зачем же? — спросил Тимка.
— Ни за чем, — сказал я. — Сам не можешь сообразить, что ли? Ты будешь рыцарь пеший, а я рыцарь конный.
И я нарисовал себя на лошади, а Тимку без лошади, и ещё я нарисовал себе и ему щит и меч.
Потом я забыл нарисовать ему шлем и закричал на весь класс:
— Эй, рыцарь, где ты потерял свой шлем?!
Все зашумели, а учительница сказала:
— Что? Что случилось?
— Ничего! — закричал я. — Пока ничего! Эй, Тимка! Подыми забрало!
Читать дальше


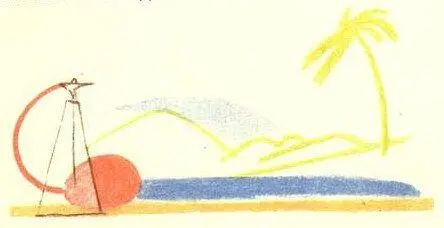

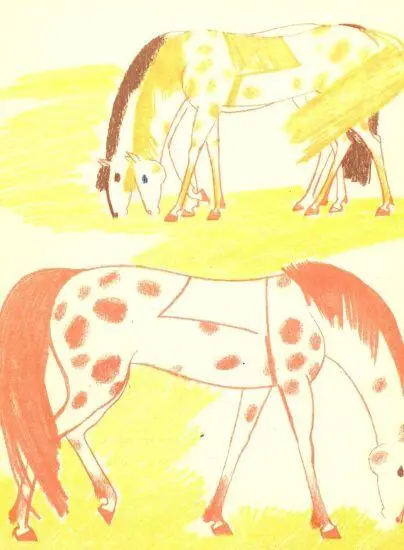
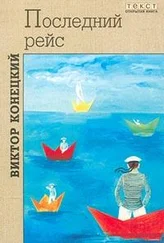







![Александр Уваров - Лети, мой ангел, лети… [СИ]](/books/435720/aleksandr-uvarov-leti-moj-angel-leti-si-thumb.webp)
