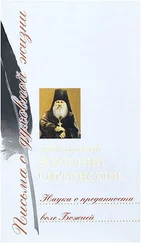— Я тебя никогда не забуду, — сказал и я, чтоб утешить его, протянул ему заветную книгу. — На — читай.
Женя с тем же убитым лицом взял ее, и мне стало стыдно: за чужую, библиотечную книгу, данную на время, меня одаривают так по-царски:
— Слушай, Жень, а не жалко тебе расставаться с личным оружием?
— Жаль, конечно, — Женя тряхнул кудрявой головой, отгоняя печаль. — Но я надеюсь еще не такое достать… Вот придет вызов, вернемся мы домой, а в степи под Херсоном, знаешь, сколько всего валяется. Там страшные бои были. Пистолетом наверняка разживусь.
— Тебе хорошо, — сказал я, с трепетом принимая от него боевые ножны.
— Ты сразу домой беги, — сказал Женя, пожимая мне руку. — А то милиция увидит, станет допытывать, где взял. Ты меня выдашь, и все — пропал я. Не видать мне Херсона…
— Не выдам! Пусть хоть чо делают! Честное пионерское!
— Верю, верю…
И я полетел домой. А через три дня, отогнав в пасево корову, подрулил к Жениному дому. Открыв калитку, вошел в палисадник и тихо постучал в их, крайнее к воротам, окно. Но мне никто не ответил. Я ударил сильнее. Молчание… Дрожь недоброго предчувствия охватила меня. Я выскочил из палисадника и ударил в ворота — кулаками, ногами замолотил.
Ворота открыл косорылый, с огромным, через всю щеку шрамом хозяин.
— Ну, чо барзишь, чо барзишь?
— Женю позови! Квартиранта!
— Нету у меня никаких фатирантов. Были да сплыли, еще вчерась утресь вовсе съехали.
— Куда? В Херсон?
— В какой… Херсон? В город Свердловский. Его мать, херург, на срок сюды, в оспиталь, была завербована, а щас назад в институт вызвали. Вот и убрались в Свердловский.
Но для меня тогда что далекий, опаленный войной Херсон, что близкий тыловой Свердловск были одинаково недосягаемы.
— А он мне, Денису, ничего не наказывал передать? — с последней надеждой взмолился я. — Ты вспомни, дед?
— Никому ничо. Да такой разве чо другим оставит? Он наоборот чужое норовит прихватить. Не ты первый приходишь…
Но я уже не слышал старикана, проскочил мимо него и толкнул дверь Жениной боковушки— она была пуста. Лишь валялись на полу обрывки тетрадей за восьмой класс, сплошь испещренные жирными пятерками, да на стене, прямо на обоях, была намалевана чья-то смешная рожа.
Я подошел ближе. Нет! Мой друг меня не забыл, он оставил мне память — на стене был нарисован стриженный наголо лопоухий пацан с вытаращенными глазами и с кривой шашкой в руке. Ведь старший умный товарищ мой был, к прочим его талантам, еще и порядочный художник, оформлял школьную стеннуху, — на обоях был нарисован я, а для подтверждения внизу написаны стихи:
Шашки наголо, Денис,
Предводитель дохлых крыс!
И рука моя, в потной пятерне которой были зажаты боевые ножны, поднялась сама собой, и я, в куски, в лохмотья разбивая древний картон ножен, начал сечь ими направо и налево: по подлому рисунку, по стенам, по полу — по отличным оценкам лучшего ученика, общественного пионервожатого. Я выл, ругался и наотмашь, с полуплеча, с подтягом рубил, рубил до тех пор, пока в моей руке не остался от несчастных ножен один медный ободок.
Я не понимал, что бил тогда самого заклятого, пожизненного своего врага — политического спекулянта. Того, кто изображает великие чувства, не испытывая их, кто щеголяет высокими словами, сам в них не веря. Я этого, ясно, не понимал. Но для праведной ненависти вовсе не обязательно ясное понимание!..
Я бросил бесполезную медяшку в угол, вылез на улицу. И пошел туда, куда не идти не мог. К Леньке Шакалу — каяться.
Но сперва забежал домой, сгреб в охапку весь мой арсенал: автоматы, наганы, сабли, мечи — сгреб все это вдруг опостылевшее мне дерево, приволок в дом и бросил к печке, под ноги бабушке.
— Жги все к лешему! — сказал.
— Давно бы так, мой мальчик! — обрадовалась бабушка.
— У нас ничего поесть нет? — перебил я.
— Да ты, и часу не прошло, завтракал, теперь обеда жди.
— Понятно, — сказал я и, как только бабушка, орудуя ухватом, с головой залезла в печь, схватил почти новый кусок хозяйственного мыла, принесенного с завода мамой и лежащего на умывальнике… Я проводил операцию «мыло». Еще предстояло загнать его на рынке и на вырученные полторы-две сотни купить Леньке шамовки — хоть как-то замазать вину перед ним, хоть как-то оправдаться…
Ленька сидел во дворе своего дома на провалившейся завалинке и ел «калачики». Это высокое, с резными листьями растение в наше время росло повсюду — название его я забыл, да и не встретишь его почти нынче, даже в деревне редко увидишь, а в городе вовсе нет. Так вот — на верхушках его, туго, сжатых, будто персты в щепоть, к концу июня созревали плотненькие такие плодики, похожие на лилипутские калачики— сытные на вкус и неядовитые, брюхо набить можно, я сам их горстями понужал за милую душу… Шакал доедал свои последние: верхушки всех «калачиков» в его дворе были оборваны.
Читать дальше