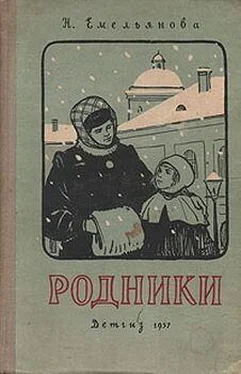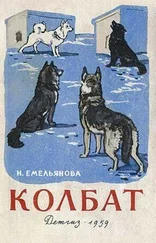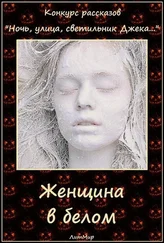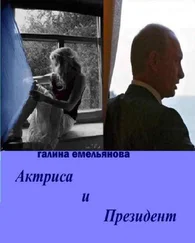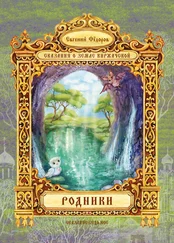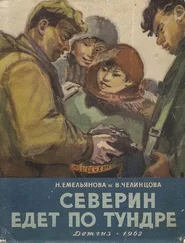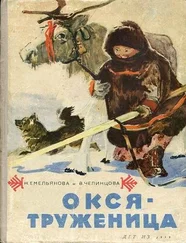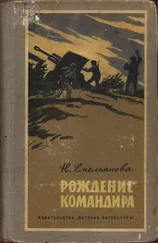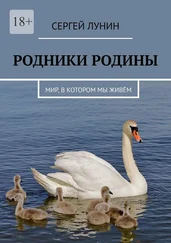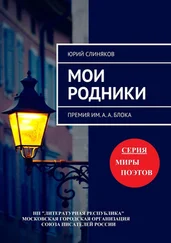Чем старше я становилась, тем чаще замечала, что взрослые иногда замолкали при детях или говорили так, чтобы было трудно понять их. Тогда, не договорив, они взглядывали друг на друга, как это случилось и сегодня, или употребляли им одним понятные слова. Но хотя я иной раз и не могла понять, про что говорят при мне, то, как говорят, я понимала всегда; это хорошо понимают все дети. Интонация, жест, сопровождавший обращение к другому человеку, упрёк или умолчание придавали выразительность словам, даже когда их нарочно произносили так, чтобы не привлекать моего внимания. Таким образом, внимание как раз привлекалось, и услышанная фраза крепко врезывалась в память.
— Почему вы с мамой перестали разговаривать? — помню, спросила я в то утро.
— Потому что тебе об этом ещё рано знать, — ответил отец.
Такие ответы я слышала не раз и всегда понимала их по-своему, но достаточно верно: взрослые не хотели, чтобы дети знали о плохом или страшном.
У взрослых была своя, особенная жизнь. Они не хотели показывать детям всего, что в ней происходит, может быть, не умея объяснить им, какое место среди совершающихся событий занимают они сами. Поэтому всё, что случалось, было как будто только одной стороной обращено ко мне, а другая должна была оставаться невидимой для меня. Но этого как раз и не происходило: хотя «большие» и думали, что я ничего не понимаю, но в свои семь лет я замечала многое. Ведь сколько девочек немногим старше меня уже работали на фабрике!
Если в таких, как наша, семьях детей хотели и старались уберечь от тяжёлых впечатлений жизни, то в семьях рабочих дети вместе со взрослыми сами жили этой тяжёлой жизнью. Играя с девочками, видя, как живут их отцы и матери, я, конечно, не только не оставалась в стороне от самых различных впечатлений, но с особенной жадностью схватывала их, может быть, именно потому, что они отличались от тех, которые давала мне жизнь моей семьи. И хотя я часто совершенно неверно понимала то, что открывалось передо мной, объяснить это мне не спешили. События же происходили большие.
…Кто-то прошёл по коридору и сильно постучал в дверь. Вошел рыжий приказчик.
— Федот Осипыч приказали вам выходить работать, — сказал он.
Отец взглянул на мать, прошёл по комнате и остановился у окна. В окно было видно, как непривычно медленно втягивались группы рабочих в открытые двери фабрики. Скоро большой двор опустел. Рабочий день начинался с запозданием.
— Так что же сказать Федоту Осипычу? — спросил приказчик.
— Скажи, я сейчас приду.
И когда приказчик вышел, отец добавил:
— В такое время я не пойду с фабрики, где все рабочие меня знают и доверяют мне, туда, где никто не знает.
Много лет спустя, глядя на картину Маковского, изображавшую расстрел безоружных, доверчиво идущих к царю людей, я необычайно ясно увидела, как всё происходило до этого схваченного художником момента.
Сначала рабочие шли спокойно, неся образа и портреты царя, женщины вели за руку своих детей, и — вдруг! — ряды этих торжественно настроенных людей смешались и побежали, оставляя на снегу тела раненых и убитых товарищей. Эти женщины, с ужасом в глазах прижимавшие к себе детей, и похожий на Герасимыча человек в распахнутом на груди полушубке были хорошо знакомы мне: они были такие же рабочие, как и ткачи Никитинской фабрики. Тогда я почувствовала, что эта картина уже возникла во мне в то далёкое утро моего детства, когда я всё-таки поняла, что тысячи людей пошли к царю с просьбой облегчить их «невыносимо тяжёлую», как сказала мама, жизнь, а царь приказал стрелять в них. Думали, что царь хороший, а оказалось, он жестокий человек. Вот как ошиблись люди! В то утро мне шёл восьмой год.
Днём мы играли во дворе с моей новой подружкой Лизунькой. Дуняша давно уже жила на Пресне. Кондратьев теперь поселился во дворе дома, где жил дедушка Никита Васильевич, и взял к себе Ксению и детей. Дуняша иногда прибегала к нам вместе с дедушкой Никитой Васильевичем, с матерью же только присылала поклоны; когда Ксения уходила. Дуняша оставалась с Катюшкой.
Погода в тот день была мягкая; человек десять ребятишек присоединились к нам, и мы затеяли игру «в школу и учительницу». Надо было надеть картонные шпульки на указательные пальцы и такими длинными пальцами писать на снегу буквы и цифры или рисовать, что говорила «учительница». Тот, кто написал первый, бежал застукивать палочкой-выручалочкой, а у кого сваливалась на бегу шпулька, тот проигрывал.
Читать дальше