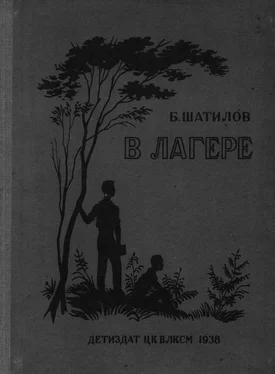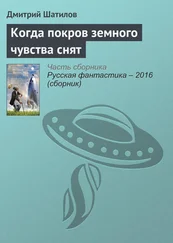Ника гуляла с отцом по аллее. Они о чем-то спорили и даже, повидимому, ссорились.
«Неужели и они?..»
Меня удивило. И Ника и отец ее так не похожи были на меня, на отца моего и на мать, что, мне казалось, они не должны были ссориться, что у них все должно быть по-другому. Я с любопытством смотрел на их спины, удалявшиеся от меня. Но вот посреди аллеи Ника круто повернула и быстро пошла назад, ко мне. Отец сказал ей что-то вслед, но она не слушала его, и он пошел один дальше.
Ника подошла ко мне, сердитая и чем-то очень расстроенная.
— Я не буду играть, — сказала она резко.
— Почему?..
Я крайне удивился.
— Так… не хочу.
Она села на скамейку против меня, болтая ногами, как капризный ребенок.
— Да почему? Что случилось? — недоумевал я.
Она насмешливо посмотрела мне в глаза и ничего не ответила. Потом встала и ушла на сцену за занавес. Я тоже вскочил, чтоб пойти и с возмущением рассказать ребятам.
«Отказываться в последнюю минуту!.. Да кто же так делает?.. И я, дурак, полез с расспросами…»
И вдруг за занавесом послышался сумасшедший хохот Ники. Я перепугался — уж не истерика ли? — и бросился на сцену. Но испуг мой сейчас же прошел, когда я увидел в руках у нее маску чудовища.
— Это ты в ней?.. А ку, надень, надень!
Я надел и стал медленно наступать на Нику.
— Ой, как страшно! — вдруг вскрикнула она и убежала.
Странная девочка! В одну минуту столько перемен!
Солнце зашло, начинало темнеть, и к террасе стал сходиться народ. Все шумнее и теснее становилось на площадке перед сценой.
— Начинайте, ребята, — торопил нас Николай Андреевич.
Мы заволновались, заметались по сцене.
— А картошку-то? — вспомнил кто-то и во весь дух помчался к поварихе на кухню.
Все суетились, искали чего-то, торопились и мешали друг другу. Один Юрий Осипович спокойно прилаживал Симке бороду.
Стало уже совсем темно. Мы зажгли фонарики и лампы. Мягким светом осветились лица зрителей, дом, клумбы с яркими цветами, стволы и листья деревьев; затрепетали тени, огромные, черные. Все преобразилось, все стало фантастичным и призрачным. И за всем этим была густая, таинственная чернота парка.
Мы сели посреди сцены у костра — вокруг зажженного Тошкиного красного фонаря, прикрытого хворостом. Прозвенел второй звонок. Открыли занавес. Спектакль начался.
Хорошо ли мы играли? Не знаю. Вероятно, плохо. Какие мы актеры! Но в домашних спектаклях есть какая-то своя особая прелесть, которой никогда не бывает в настоящих театрах. В чем ее суть, не могу объяснить. Но она все смягчает и скрадывает, так что публика как бы и не замечает недостатков и все принимает с удовольствием.
Так было и тут. Да и не все у нас было плохо. Ника сначала с Мусей, а потом уже, сверх программы, одна протанцовала восточный танец так, что в публике поднялся страшный грохот и крик:
— Браво! Бис! Бис!
Ей долго аплодировали все, кроме отца. Он сидел в последнем ряду рядом с Николаем Андреевичем. Николай Андреевич что-то шептал ему на ухо, а он, сдвинув брови, кивал головой. Неподалеку от них с краю сидел Юрий Осипович и рисовал что-то, положив альбом на колени.
Маска моя тоже имела огромный успех. Когда я высунул из кустов свою нелепую кабанью морду, в первых рядах завизжали от страха, а в дальних, где сидели взрослые, раздался дружный смех.
А когда вышел Серафим в черном капоте нашей поварихи, подпоясанный широким ремнем, в соломенной шляпе Сергея Сеновалыча, с мочальной бородкой и смешной косичкой жгутиком, публика уже не смолкая хохотала до конца спектакля.
Серафим играл лучше всех и так живо, что временами так и казалось, что на сцену к нам затесался настоящий, натуральный поп — смешной, голодный, глуповатый и жадный. Не ожидал я от него такой прыти. Впрочем, он умный, талантливый парень.
После спектакля гости наши заторопились на поезд. Мы проводили их, вернулись на притихшую, опустевшую террасу с потушенными фонариками и при свете керосиновой лампы, все еще взбудораженные, взволнованные, стали убирать декорации, стулья, скамейки.
И тут случилось то, ради чего я и описываю наш спектакль. Я носил стулья. И вот, когда я сошел с террасы в темноту, следом за мной, стремительно выбежала Ника, схватила за руку и крикнула:
— Бежим!
И мы побежали во весь дух в темноте по аллее, добежали до конца и бросились, задыхаясь, на новую скамейку. Сердце стучало сильно-сильно. Кругом была тьма, только платье белело на Нике да вверху над деревьями светилось небо и горели звезды. Издали доносились взволнованные голоса деревенских ребят, возвращавшихся домой. В овсах за парком кричал коростель.
Читать дальше